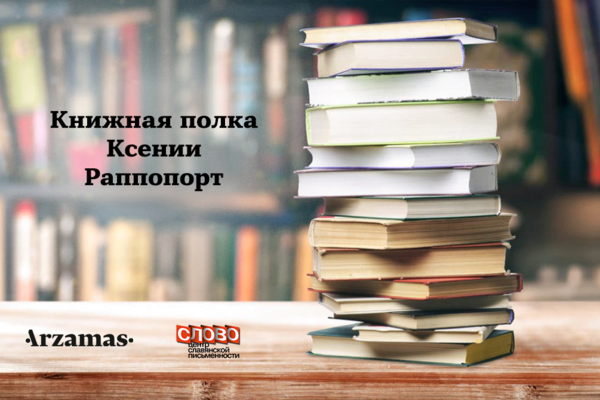Arzamas и Центр «Слово» на ВДНХ открывают библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. В новом выпуске рубрики — режиссер Павел Лунгин
Корней Чуковский. «Крокодил», «Тараканище»

Обложка книги Корнея Чуковского «Крокодил». Москва, 1941 год

Обложка книги Корнея Чуковского «Тараканище». Москва, 1961 год
Мне кажется важным иметь эти стихи на книжной полке прежде всего потому, что они будят воображение, такое лукавое, непокорное, веселое воображение. «Крокодил» немедленно, с первых строк, предлагает ребенку парадоксальную ситуацию: крокодил идет по Невскому — это что значит? Непонятно совершенно. Он идет в галошах, в штанах или ползет голышом? У него, оказывается, есть дети, Тотоша и Кокоша, и они шалят — так же, как и ты. По-моему, главное — чтобы ребенок с самого начала учился воспринимать и принимать парадоксы. Это танец воображения, переодевание смыслов, карнавальный праздник, который будит и чувство юмора, и чувство поэзии. Но главное — тут есть во что играть, и это очень важно. Ты можешь играть в крокодиловых деток Тотошу с Кокошей, а можешь — в доблестного Ваню Васильчикова, который и сестру свою Лялечку спас от диких зверей, и дал этим самым зверям свободу, выпустив их всех из клеток зоосада. Это написано очень талантливо и иронично.
А «Тараканище» рассказывает нам мудрую притчу о страхах. О том, как иногда мы боимся чего-то мелкого, ничтожного, чья ужасность и мощь — только в нашей голове. И опять это делается в форме какого-то залихватского веселья, и как же это смешно — бегство всех зверей от таракана! Мне в детстве представлялась африканская саванна: бегут огромные слоны, смелые львы, быстрые антилопы, а за ними где-то там, далеко, в мягких сапожках, с усами закрученными, может быть, даже в фуражке генералиссимуса идет маленький злобный таракан:
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и морей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
Сегодня я пребываю в некотором отчаянии от того, как безраздельно воцарилось клиповое сознание: ребенок сразу начинает мыслить картинками — ему не дают включить воображение в качестве реакции на слова, на текст. Современная видеокультура делает ужасную вещь: купирует способность создавать образы, обездвиживает саму мышцу воображения. Мозгу уже ничего не надо жевать, ему все подается протертым и готовым к употреблению, как пища в космонавтских тюбиках, знай выжимай и глотай: тут тебе и борщ, и клубника со сливками. А эти стихи надо жевать, надо спрашивать у мамы, что к чему и почему, надо себе что-то объяснять. В этом смысле Чуковский сегодня необходим.
Корней Чуковский — о детских стихах
Единственное доступное видео Корнея Чуковского — и именно в том образе, которым он скорее тяготился: доброго дедушки, читающего советским детям сказочки и задающего проверочные вопросы. 1960 год
Сказки и легенды маори

Обложка книги «Сказки и легенды маори». Москва, 1981 год
© Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Это была книжка в мягком переплете с каким-то чудищем на обложке и удивительными историями внутри — мифами народа маори, коренных жителей Новой Зеландии. Я всегда любил мифы, начиная от самых простых, вот как эти или как сказки народов Чукотки. Странная смесь примитивных знаний и яркой образности давала ответы на какие-то большие детские вопросы. Оказывалось, что звезды светят потому, что кто-то кого-то полюбил, а рыбы молчат потому, что кто-то кого-то обманул. Простая форма, объясняющая тайны природы и человеческих отношений, необыкновенно притягательна, это ведь важнейший этап понимания устройства мира, который мы обязательно проходим в детстве.
С одной стороны, эти книжки рассказывали реальные вещи о нравах и обычаях, о богах и героях, о духах и поверьях, с другой — там происходило невероятное. Там был шаманизм — и ты вдруг поражался тому, что дождь и жара могут подчиняться танцам вокруг костра. Помню, как в чукотских сказках меня поразило выражение «и пошла нога»: человек должен был пойти по делам, но что-то удержало его в чуме, и он послал по делам свою ногу.
В легендах маори царили океанские демоны, хранители подземных царств и слуги леса в образе птиц, там водились оборотни, принимающие облик мужчин или женщин, — я хорошо запомнил, что отличать их надо было по золотистым волосам, голубым глазам и белой коже. На деревьях там жили полулюди, не знающие смерти, а в пещере обитало чудище с человечьим телом, покрытым рыбьей чешуей, и головой собаки.
Из этих книжек вставал иной мир — загадочный, мистический, необъяснимый и в то же время вроде бы реально существующий. Мне кажется, это невероятно важно для ребенка: с одной стороны, чтобы уйти от рутинного восприятия жизни, с другой — наверное, чтобы полюбить людей. Чтобы понять, что и маори, и чукчи, и какие-нибудь кафры — такие же, как мы, хоть и едят древесные грибы. Они так же валяют дурака и так же хотят знать ответы на вопросы, которые волнуют и нас. Неслучайно эти тоненькие книжечки издавала тогда Академия наук. Они, как правило, были очень скупо иллюстрированы, но это абсолютно компенсировалось невероятным, искрящимся богатством текста.
Яков Голосовкер. «Сказания о титанах»
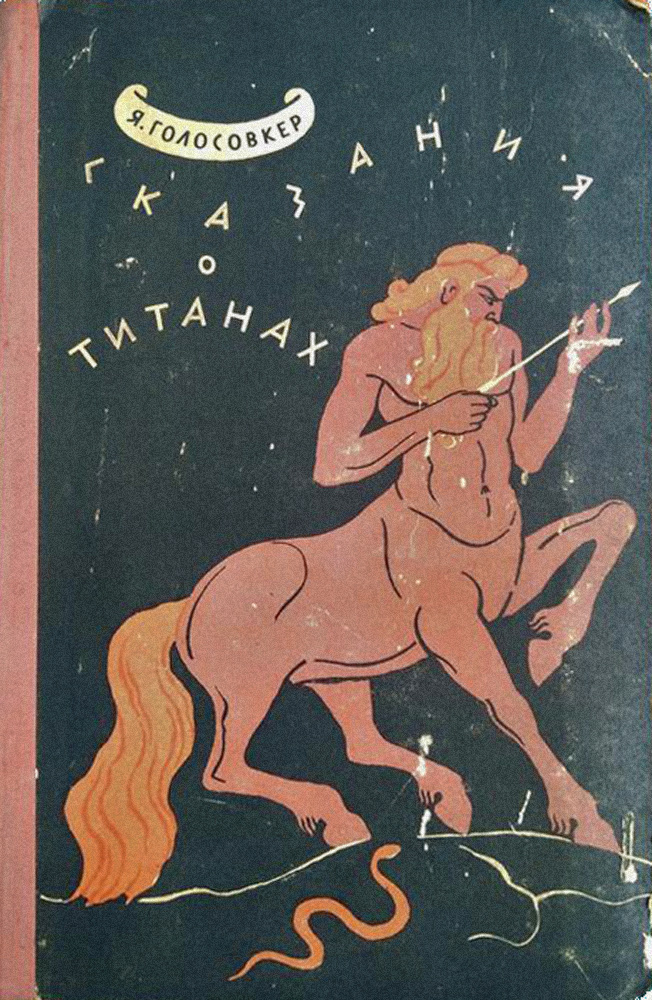
Обложка книги Якова Голосовкера «Сказания о титанах». Москва, 1957 год
© Государственное издательство Детской литературы
В какой-то степени мне эта книга заменила классические «Легенды и мифы Древней Греции» Куна. Мифология Древней Греции невероятно интересна, но написана как-то суховато, что ли. На самом деле в греческих мифах, как и в греческом восприятии жизни, было черное и белое, темное и необъяснимое, светлое и ужасное: тысячерукие великаны, растущие из-под земли, женщины-змеи, рождающие богов, дети, оскоплявшие серпом своих отцов. А Кун все это стерилизовал, говоря только о солнечной стороне греческой мифологии. Как-то очень торжественно и нравоучительно.
Голосовкер же — философ, литературовед, серьезнейший исследователь и переводчик античной лирики — описал темную сторону жизни Олимпа и титанов — тех, кто был до греческих богов. У Куна боги немножко герои соцреализма: улыбающиеся, в начищенных доспехах, их может играть Брэд Питт. А Голосовкер ушел под землю, в хтонические слои, где жило темное подсознание нарождающегося мира. Для меня это было очень поэтично и дало совершенно иной взгляд на битву богов и титанов. Титаны были сильнее, а боги хитрее, и титаны всегда оказывались побеждены — обманом, ловкостью, наукой, прогрессом, я бы сказал. Правда и трагизм этой титанической жизни, мне кажется, важны для понимания как греческих мифов, так и всей европейской культуры.
«Старшая Эдда», «Младшая Эдда»

Обложка книги «Старшая Эдда». Москва, 1963 год
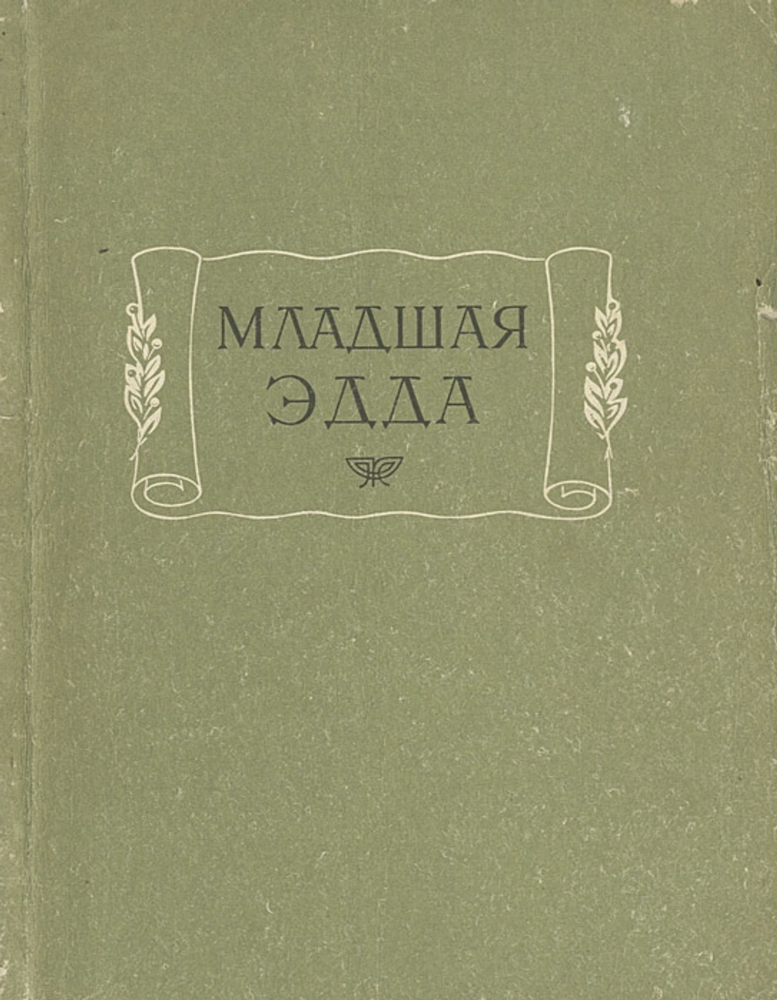
Обложка книги «Младшая Эдда». Ленинград, 1970 год
У моих родителей был старший друг, философ, крупный литературовед-шекспиролог Леонид Ефимович Пинский. В свое время он преподавал маме в ИФЛИ , потом был арестован, отсидел, и, когда вышел из лагеря, ему было негде жить. Какое-то время он жил у нас, и мама требовала, чтобы он на меня влиял в интеллектуальном смысле: то, что я лет в десять-одиннадцать прочел обе «Эдды», несомненно, его заслуга. Текст написан каким-то полугекзаметром, он весь как огромное стихотворение — не знаю, смог бы я его сейчас читать, но тогда это произвело на меня огромное впечатление.
«Эдды» датируются началом XIII века, но это тоже своего рода легенды и мифы, рассказывающие о начале мира, его богах и героях. Именно в «Старшей Эдде» мне впервые четко представилась связь людей и окружающего мира, где человек ощущает себя звеном единой космической цепочки, где он сопричастен божественному бытию. Это вообще важное свойство скандинавской мифологии: там люди и неземные существа взаимодействуют на едином уровне и каждое явление имеет смысл в этом контексте.
Друг-одноклассник приносил мне книжки Перельмана: из «Занимательной физики», как сейчас помню, можно было узнать, почему бульон остывает медленнее, чем вода. Так вот, это меня никогда не интересовало — в отличие от «Эдды» с ее романтическим, волшебным объяснением устройства мира. Оттуда потом выросли немецкая «Песнь о нибелунгах», все эти истории о гномах и о драконе, охраняющем сокровища. Неслучайно сам образ викингов, их философия и отношения стали предметом интереса массовой культуры, темой фильмов и сериалов. И Толкин, и «Игра престолов» — все это берет начало там.
Вальтер Скотт. «Айвенго»
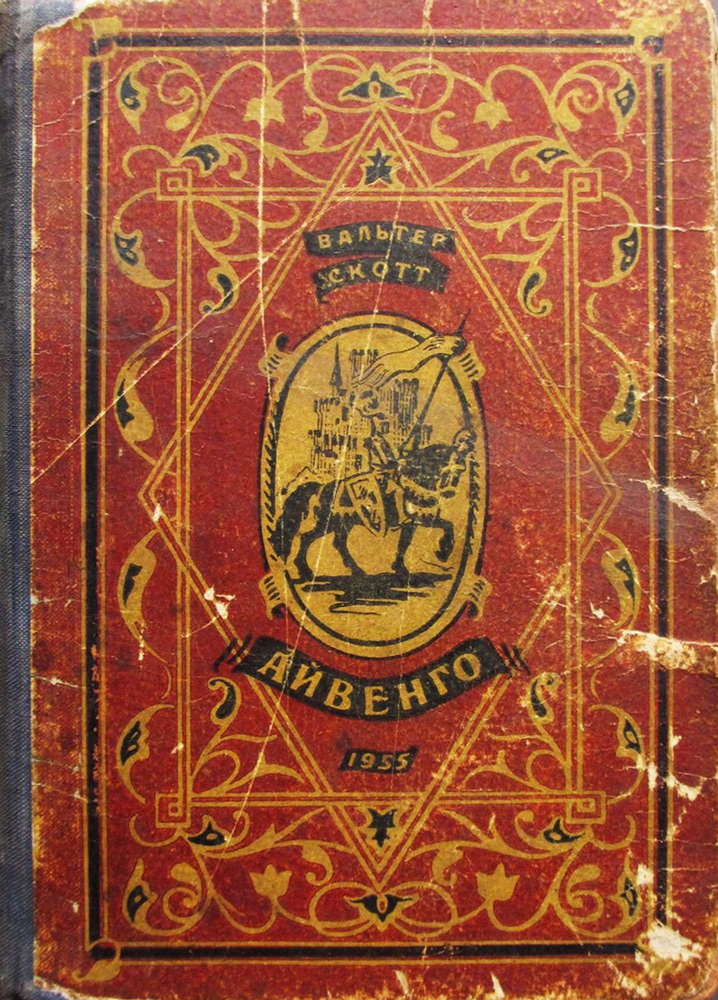
Я в детстве был дико активным, дрался, устраивал битвы на палках — да такие, что меня выгоняли из школы, — так что все эти описания рыцарских турниров меня страшно волновали. Думаю, через такой этап должен пройти каждый мальчишка, прежде чем в его жизни появится Мопассан.
Сегодня мы бы сказали, конечно, что Вальтер Скотт создавал сериалы, как, кстати, и Дюма с его мушкетерами. Эти авторы открыли законы сериального жанра, когда еще не было кино: они описывали непрерывную цепь приключений, интриг, событий, закладывая в каждой главе крючок к тому, чтобы ты, дрожа от нетерпения, переворачивал страницу. Разве это не похоже на то, как сегодня ждут выхода очередной серии? Интересно, что во времена Пушкина Вальтер Скотт считался серьезным писателем, говорящим значительные вещи о долге, чести, любви, но в моей юности это, конечно, был исключительно автор приключений. Хотя справедливости ради нужно сказать, что безусловные ценности — те же чувство долга, и преданность, и справедливость, и благородство, и смелость — его приключенческие романы отлично продвигали и закрепляли в подростковом сознании.
Черный Рыцарь оказывается королем Ричардом Львиное Сердце, нищий странник — наследником несметных богатств, все друг друга спасают, и даже враги благородны по-своему. Леди Ровена прекрасна, еврейка Ревекка не менее прекрасна, Айвенго счастлив с Ровеной, Ревекка спасена и свободна — в конце как-то все устраивается ко всеобщему благолепию. Хотя, помню, меня поразила ироничная фраза о том, что, похоже, Айвенго частенько вспоминал красоту и благородство Ревекки и неизвестно, мол, понравилось бы это Ровене, сумей она прочитать мысли своего благородного рыцаря.
Вальтер Скотт — почти физиологический этап развития мальчика, закрепление гормонального, но с размахом, с благородством, с большим сюжетом. Ты ведь должен на пути от ребенка до взрослого внутренне пройти всю культуру человечества. Ну, не должен, но так получается — а у кого не получилось, тому не повезло. Так же как ребенок в животе матери, согласно закону зародышевого сходства, проходит этапы развития потомства животного мира: лапки ящерицы, крылья и ноги птиц развиваются из тех же зачатков, что руки и ноги человека. Рыцарские романы, видимо, один из таких культурных зачатков, без которых нельзя усвоить понятие чести, нельзя понять, что надо быть храбрым, помогать слабым, защищать женщин, что хорошо бы, в конце концов, уметь скакать на лошади. Этап, на котором можно и должно усвоить эти понятия, к сожалению, быстро проходит, но без него у тебя может не оказаться ни рук, ни ног, так что книги такого рода — опорно-двигательный аппарат на всю жизнь.
Вальтер Скотт. «Айвенго»
Как «Айвенго» учит искать компромисс и почему в книге столько фактических неточностей
Ги де Мопассан. «Окно»
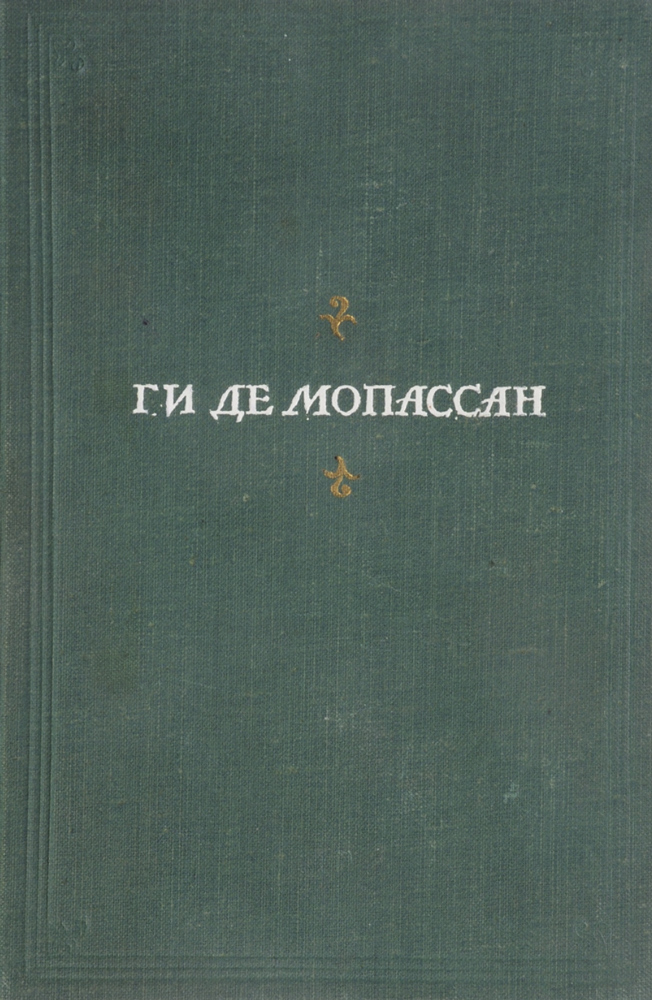
Обложка первого тома собрания сочинений Ги де Мопассана. Москва, 1950 год
Государственное издательство художественной литературы
У нас дома было, по-моему, даже два собрания сочинений Мопассана: одно серое, а другое зеленоватое, совсем старое. Это, конечно, совершенно мальчиковое чтение, мой эротический юношеский период, когда именно Мопассан начал стирать, затмевать и греческие мифы, и «Эдду» — как «Старшую», так и «Младшую». Сегодня мне сложно сказать, почему именно «Окно», крошечный рассказ, так врезалось мне в память — точнее, даже не сам рассказ, а запах вербены, который появляется на его страницах в самом конце.
Сюжет прост и забавен: некий господин влюбляется в очаровательную вдову и решает сделать ей предложение. Дама, лишенная предрассудков, подает встречную идею: пожить какое-то время рядом, общаясь платонически, но так, чтобы получше узнать друг друга. Господин радостно идет на это, попутно соблазняет хорошенькую служанку вдовы и, компенсируя таким образом высокие отношения, терпеливо ждет согласия на брак. Однажды, застав наперсницу своих постельных утех свесившейся из окна, он задирает ей юбки и целует нежную, пахнущую вербеной ягодицу, которая — о ужас! — оказывается ягодицей не служанки, но ее хозяйки. На этом, собственно, история кончается — охальника гонят прочь из дома.
Этот рассказ — простой, короткий, казалось бы, безыскусный — наполнен таким пронизывающим эротизмом, какого не было ни у кого из других прекрасных французских писателей XIX века. Мопассан — невероятный мастер новеллы, способный вызвать у читателя, особенно юного, настоящее томление плоти. Когда я прочел его биографию, она меня ужасно опечалила: он ведь закончил жизнь, будучи чуть за сорок, в сумасшедшем доме, совершенно потерянным. Это особенно грустно, потому что мне он казался на удивление здравомыслящим автором — рассказывая истории о событиях и поступках, не углубляясь явным образом в психологизм, он в то же время рисовал психологически точные портреты и ситуации.
Луи Буссенар. «Капитан Сорви-голова»
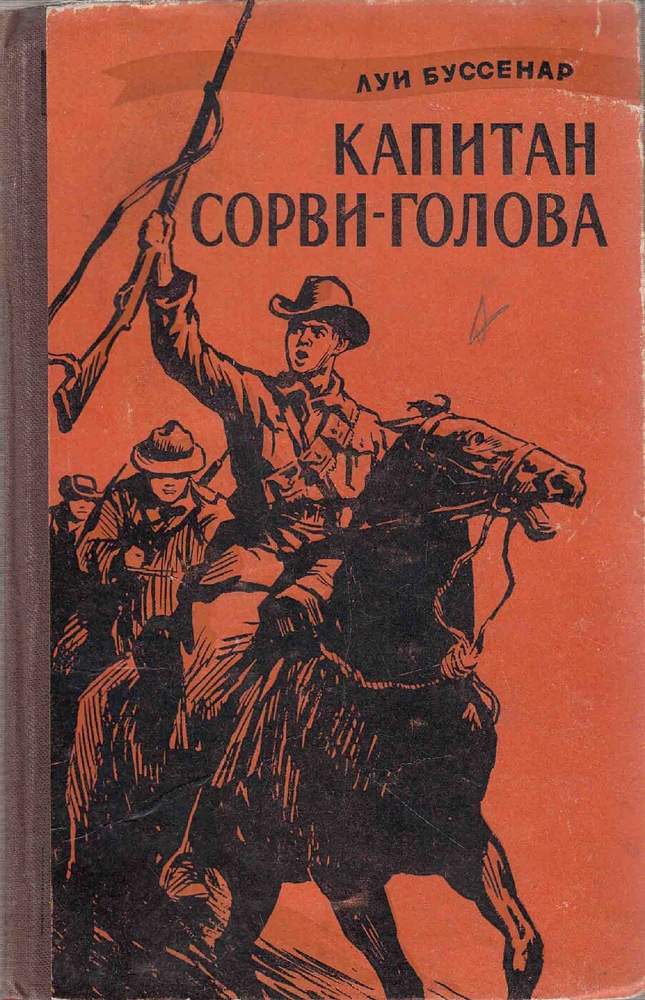
Чудесная книжка, совершенно не имеющая никакого отношения к литературе. Если продолжать кинопараллели, то это такой быстрый сериал, но такое чтение тоже нужно, потому что скучно всю жизнь есть только здоровую пищу — иногда можно и семечки погрызть. Буссенара нужно читать еще и потому, что он блестяще реализовал идею противопоставить злу энергию юности: «Капитан Сорви-голова» — это, конечно, аналог наших «Неуловимых мстителей», история про то, как команда мальчишек воюет в Африке с ужасными англичанами на стороне благородных буров.
Когда я повзрослел, выяснилось, что все неправда: и буры были не такие уж благородные (они были расисты, и у них был апартеид), и англичане были не такие уж плохие (они пытались хоть какую-то культуру туда принести). Но в детстве все затмевало восхищение тем, как четырнадцатилетний мальчик из ружья за два километра убивал англичанина, голова которого разбивалась, как орех. А как ловко он переодевается девушкой-служанкой и нанимается в услужение к матери своего врага! А как смело команда молокососов мчится по важному заданию на велосипедах, сметая на пути отряды английских улан! А как хитро под видом пастушек, приведших стадо на водопой, они закладывают куда-то динамит — восторг, да и только! Если говорить мифологически, это была победа Мальчика-с-пальчика над великаном.
«Капитан Сорви-голова» — не литература, а чтиво, но чтиво абсолютно захватывающее и опять же урок добра и благородства, а еще — урок интернационализма. Тогда же все мальчишки мечтали помогать бурам и бежали из ухоженных домов, бежали какие-то дворянские дети из России и Франции, обманом пробирались на корабли, их ловили и силком возвращали домой, а кто-то, может, и становился вот таким неуловимым молокососом-разведчиком. Это книга о том, что слабым нужно помогать и ты не бессилен, даже если ты Мальчик-с-пальчик.
Николай Заболоцкий. «Столбцы и поэмы»
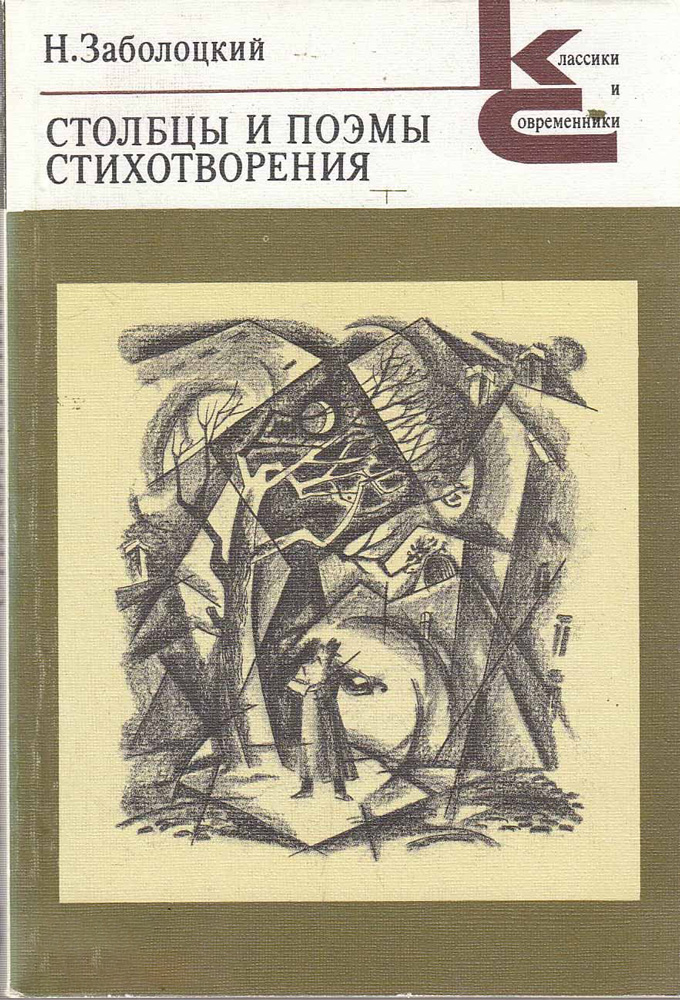
Обложка книги Николая Заболоцкого «Столбцы и поэмы. Стихотворения». Москва, 1989 год
© Издательство «Художественная литература»
Заболоцкий весь насквозь гениальный. Взять хотя бы мое любимое стихотворение «Цирк»:
Два тоненькие мужика
Стоят, сгибаясь, у шеста.
Один, ладони поднимая,
На воздух медленно ползет,
То красный шарик выпускает,
То вниз, нарядный, упадет
И товарищу на плечи
Тонкой ножкою встает.
Или дальше:
На последний страшный номер
Вышла женщина-змея.
Она усердно ползала в соломе,
Ноги в кольца завия.
Проползав несколько минут,
Она совсем лишилась тела.
Кругом служители бегут:
— Где? Где?
Красотка улетела!
У него есть потрясающий стих «Ивановы» — о том, как бесконечная армия Ивановых идет на работу «в своих штанах и башмаках», о торжестве мещанства, о непобедимости горок с посудой и трехэтажных самоваров. Это невероятно точная картина города и общества, навязавшего человеку свои стандарты, свои представления о должном. Стихотворение кончается словами: «…Но будь к оружию готов: / Целует девку — Иванов». Мне кажется, это открытие нового поэтического мира, которое совершил Заболоцкий, старший друг обэриутов.
Путеводитель по ОБЭРИУ
Кто такие обэриуты и за что их любят: их стихи, выходки и вклад в литературу
Интересно, что я со своими вполне реалистическими фильмами люблю как раз этот абсурд. Если бы я был рокером, пел бы только песни на стихи Заболоцкого, потому что они полны одновременно и бунта, и тайного, волшебного взгляда на жизнь. Это поэзия мертвых рыбьих тел на прилавке магазина, который являет собой невероятную красоту:
Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прицеплено на крюк.
Это мир, где живет одинокий кот-философ, который кончает жизнь самоубийством:
Отшельник лестницы печальной,
Монах помойного ведра,
Он мир любви первоначальной
Напрасно ищет до утра.
Это история про природу, которая не любит насилующего ее человека, и история человека, который мучает эту природу. Поэзия Заболоцкого, мне кажется, с огромным опережением предварила то, что потом в более окультуренном виде проявилось в Европе с творчеством Эжена Ионеско и Сэмюэла Беккета. Чем-то эти стихи похожи и на чукотские легенды про отдельно ходящую ногу, и на скандинавские мифы, воспевающие таким вот странным образом загадочное величие мира.
Стихи Заболоцкого — очень русская поэзия. При этом, мне кажется, главное, что в ней завораживает, — создание новой мифологии, новой логики, новых отношений между людьми и вещами, между животными и людьми. Из этого вырастает то, что в картинах Марка Шагала заставляет летать и корову, и кровать, и влюбленных: удивительная свобода в обращении с пространством, у Шагала — с графическим, у Заболоцкого — с вербальным. Полное отсутствие преданности какому-то канону.
В то же время он описывает жестко структурированный мир, в котором, как в любом мифе, всегда борются две силы: сила организующая, созидающая, светлая и сила темная, разрушительная. Именно поэтому стихи Заболоцкого наполнены таким ужасом перед мещанами Ивановыми, перед грубостью цирка, перед брутальностью рыбной лавки: «…И среди них, как желтый клык, / Сиял на блюде царь-балык». Но тебе предлагается не идти к Ивановым, а выбирать какое-то другое пространство — быть как волк из поэмы «Безумный волк», который вывернул себе шею с помощью чудовищного станка, чтобы увидеть звезды.
Заболоцкого арестовали в 38-м. Не расстреляли, но сломали: из лагеря он вернулся тихим и дальше писал красивые, очень реалистические, очень обычные стихи. Величайший гений мирового уровня был просто загублен. И он, и Даниил Хармс, и Николай Олейников — люди, выворачивающие привычный русский мир наизнанку, дающие ему совершенно другое звучание, другой смысл и о чем-то предупреждающие. Сами они не понимали того, что предчувствовали, но этим ощущением катастрофы, которое сквозит в их якобы шутливых стихах, как бы приоткрывались тайны наступающего XX века, века коммунизма, фашизма, ГУЛАГа, массовых истреблений. Они каким-то неведомым образом подключились, как сказал бы Владимир Вернадский, к какой-то ноосфере. Мне кажется, для того, кто хочет понять, что сделал XX век с этой страной, ранний Заболоцкий — обязательное чтение.
Николай Олейников. Стихи

Обложка сборника стихотворений Николая Олейникова «Пучина страстей». Ленинград, 1991 год
© Издательство «Советский писатель»
Олейников — один из самых ярких, самых парадоксальных поэтов своей эпохи, той самой, которая его, как и Заболоцкого, перемолола и уничтожила. Совершенно невозможно поверить в его смерть — вполне мученическую, как многие смерти времен Большого террора, — когда читаешь прелестные и смешные стихи о любви — к примеру, как эти, посвященные художнице Татьяне Глебовой:
Вы, по-моему, такая интересная,
Как настурция небезызвестная!
<…>
Для кого Вы — дамочка, для меня — завод,
Потому что обаяния от Вас дымок идет.
Или знаменитое:
Красавица, прошу тебя, говядины не ешь.
Она в желудке пробивает брешь.
Она в кишках кладет свои печати.
Ее поевши, будешь ты пищати.
Или вот это, мое любимое:
Неприятно в океане
Почему-либо тонуть.
Рыбки плавают в кармане,
Впереди — неясен путь.
Так зачем же ты, несчастный,
В океан страстей попал,
Из-за Шурочки прекрасной
Быть собою перестал?!
Есть у него стихи абсолютно пророческие, про таракана. Тут мы видим какую-то невероятно важную преемственность образа таракана, идущую, конечно, из «Бесов» Достоевского, от капитана Лебядкина, от его «Жил на свете таракан, / Таракан от детства, / И попал потом в стакан, / Полный мухоедства…» И вот этот таракан в стакане вдруг возрождается у Олейникова невероятно печальным стихотворением о том, что «Таракан сидит в стакане, / Ножку рыжую сосет. / Он попался. Он в капкане. / И теперь он казни ждет». Стихотворение, которое наполнено предчувствием гибели. Пророческая красота стихов Олейникова меня убивает — насколько такая простецки сконструированная вещь может быть точна и прекрасна.
Мне кажется, что новая традиция стихов типа «пирожки» и «порошки», которыми полон сегодняшний интернет, с их абсурдными героями, изломанными следственными связями, понарошку жестокими шутками и прямолинейными выводами — полная наследница поэзии Олейникова. Это, конечно, важнейший кусок русской культуры, который расцвел в 20–30-х годах прошлого века и с какой-то звериной яростью был уничтожен властью.
Даниил Хармс. «Случаи», «Голубая тетрадь № 10»

Обложка сборника рассказов Даниила Хармса «Случаи». 1991 год
© Издательство «Нита»
Хорошо помню эту распадающуюся на отдельные страницы даже не книжку, а пачку сброшюрованных листов, напечатанную на ротапринте — тогда еще не было ксероксов. Я не знал автора, но меня совершенно поразило вот это: «Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду». Было совершенно непонятно, как можно над этим смеяться, и в то же время было непонятно, почему мне от этого дико смешно. «А Перехрестов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди, а не умеют поставить себя на твердую ногу». Мы повторяли это без конца, заходясь от хохота.
Здесь мы сталкиваемся с загадочной природой смешного, здесь присутствует элемент злой клоунады, когда есть клоун белый и клоун рыжий, рыжий бьет белого по жопе, тот плачет, падает — и весь зал хохочет. Почему? Непонятно. Это восходит к древней смеховой культуре, к чему-то глубоко заложенному в человеке, тому, что Михаил Бахтин считал простейшей формой коммуникации. Мне трудно проанализировать, где проходит в этом смысле грань между трагическим и абсурдным, грань, которая позволяет нам смеяться над детьми Спиридонова, утонувшими в пруду, или над Пушкиным, который не умел ровно сидеть на стуле: «Бывало, сплошная умора; сидят они за столом: на одном конце Пушкин все время падает со стула, а на другом конце — его сын». Могу предположить, что так Хармс высмеивал появляющуюся тогда политкорректность, официальную культуру, традиционный взгляд на Пушкина как солнце русской поэзии.
Наверное, в мире страшной серьезности, где надо было пламенеть, маршировать, бия себя в грудь, идти на баррикады или за комсомолом или погибать, выдавая на-гора очередную тонну угля, Хармс чувствовал острую необходимость разрушать эту сверхсерьезность, фальшивый героизм, истерический пафос. И он, и Заболоцкий, и Олейников увидели здесь опасность, они первыми перестали относиться серьезно к себе, к официально объявленным ценностям, к жизни и смерти — как в рассказе «Сундук», где «жизнь победила смерть неизвестным для меня способом». Это ведь гениальная фраза, где сосредоточено великолепное презрение к смерти, которое сродни мексиканским карнавалам, когда все хохочут и пляшут, одеваясь скелетами. Таким образом, здесь проявились какие-то общечеловеческие вещи, но в уникальной русской форме, которая была совершенно задавлена и которую невероятно, до боли жаль. Именно поэтому их литература не должна исчезнуть, а должна встать на полку — для тех, кто родился десятилетия или уже даже столетие спустя.
Андрей Битов. «Улетающий Монахов»
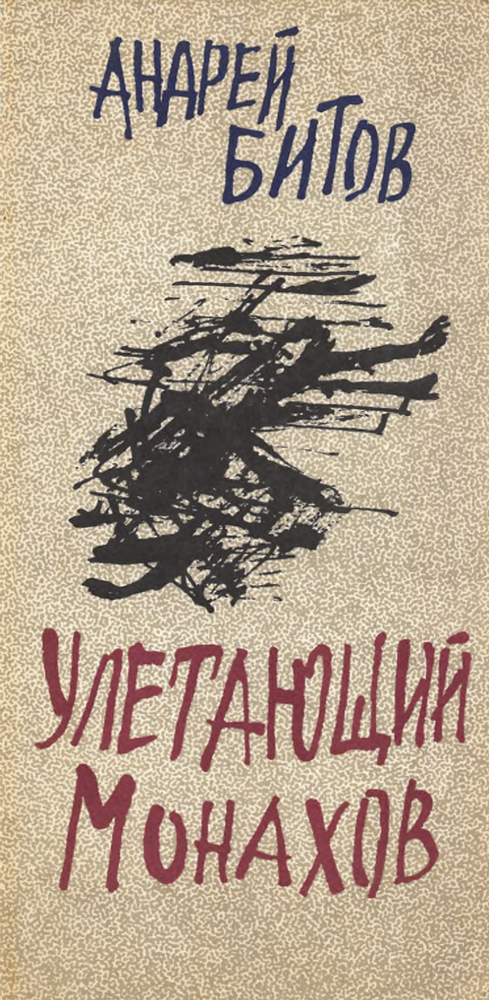
Обложка романа Андрея Битова «Улетающий Монахов». Москва, 1990 год
© Издательство «Молодая гвардия»
В определенный период я был по-настоящему влюблен в Битова, и «Улетающий Монахов» остался в памяти как концентрация всего, чем этот писатель был для меня привлекателен. Прежде всего — язык, великолепный русский язык, непафосный, почти бытовой и при этом тончайший, чистый, полный невероятно точных метафор и определений. Битов действовал таким образом, что мне всегда хотелось начать писать: это казалось так просто и близко, это было так похоже на меня.
Вторая важная и очень трогающая меня вещь: Битов описывает лишнего человека и в этом смысле кажется предшественником Сергея Довлатова. В битовских героях всегда есть что-то обаятельное, романтическое и неудачливое, что совершенно совпадало с образом советского интеллигента, как мы его с усмешкой воспринимали. Лишний человек-интеллигент, который не может найти места в официальной, правильной жизни, казался абсолютно своим. Наша жизнь текла как-то сбоку: построенная на цитатах, на некоторой романтизации алкоголя, на не вполне упорядоченных любовных связях и важнейших дружбах, на том, что надо поехать в какую-нибудь геологическую экспедицию, чтобы там разобраться с собой. И Битов чистым, волшебным языком описывает внутреннее состояние такого молодого человека, героя нашего времени.
«Улетающий Монахов» писался почти 30 лет — с начала 60-х до публикации полного текста в начале 90-х. Шесть частей, шесть мужских возрастов. Книга не зря имеет подзаголовок «роман-пунктир»: как жизнь героя идет пунктиром от одной любовной связи к другой, так и наша жизнь течет, чередуя значимые отрезки с невидимыми, на которых человек пытается понять, кто он и зачем. Очень важно, что Монахов не в ладах со временем: никогда не находится в настоящем, а все время думает о том, что прошло, или пытается представить, что будет, начиная с самого детства, когда ждет под дверью взрослую женщину, в которую влюблен. Изменяет жене, изменяет любовнице, изменяет встреченной в поезде хорошей девушке, изменяет той, которую раньше любил, — и все это одна сплошная измена себе, неловкая, незапланированная, но какая-то абсолютно неизбежная.
Владимир Набоков. «Весна в Фиальте» и «Возвращение Чорба»
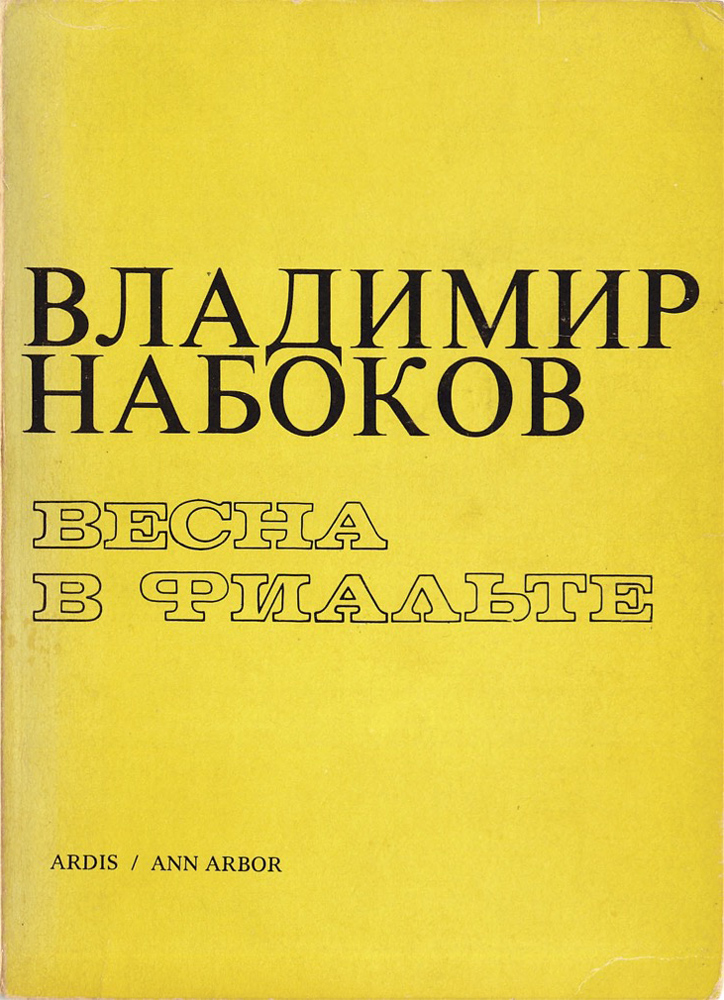
Обложка книги Владимира Набокова «Весна в Фиальте». Анн-Арбор, 1978 год
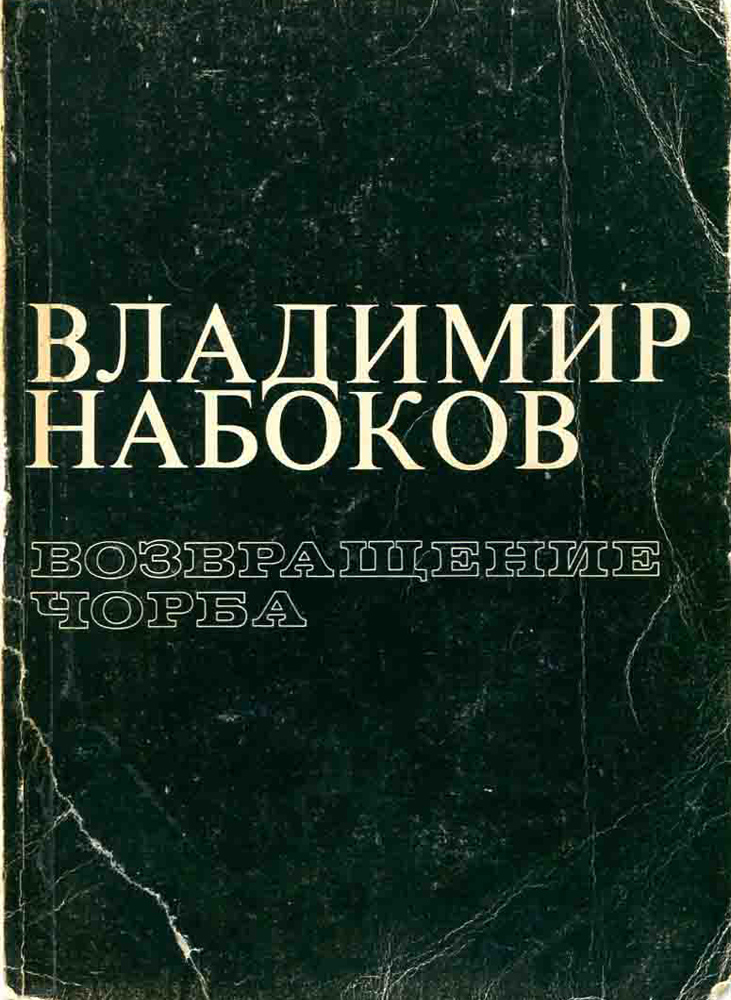
Обложка книги Владимира Набокова «Возвращение Чорба». Анн-Арбор, 1976 год
Мне по сей день удивительна способность Набокова-писателя вызывать невероятную в себя влюбленность. Набоков стал той литературой, которая должна бы существовать в России и которой не случилось из-за революции. То, что здесь было революцией убито, у него осталось — только потому, что он уехал, получив иной опыт большой жизни. Очень важно, что его ностальгия стала для него не тюрьмой, а, наоборот, дверью в другой мир, к другим чувствам, другим людям. В этом смысле Набоков ни на кого не похож, и для меня его тексты в первую очередь сильнейшее эстетическое переживание, почти стихотворное. При этом, хотя сам Набоков почитал себя поэтом, именно стихи его я никогда не любил.
«Возвращение Чорба» и «Весна в Фиальте» — сборники рассказов ардисовского издания . Их нам привозили из Америки — такие мягкие книжечки в шероховатых обложках. Помню беспокойство, которое вызвало «Возвращение Чорба» — бесконечная, мучительная попытка героя воскресить в памяти образ только что умершей молодой жены. А заглавный рассказ второго сборника сидит в моей памяти особенно остро. Сквозь главное повествование все время просвечивает подкладка другой жизни героя — с женой, дочками и доберманом-пинчером, — но при этом звучит и звучит пронзительная нота бесконечного сожаления о несбывшемся, о возможном, но не давшемся в руки — даже не то чтобы не давшемся, а именно об упущенном по собственному душевному разгильдяйству: «делалось тревожно, оттого что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое». История несостоявшейся любви, рассказанная спокойно, даже отстраненно, — помню, как меня поразило вскользь брошенное в финале сообщение о смерти Нины.
Мне кажется, это одно из самых чувственных произведений Набокова. Чувственных в самом прямом смысле — даже забыв детали сюжета, я чувствую, прямо помню физически ощущение теплого, влажного воздуха неизвестной мне Фиальты и цирковую афишу с оторванным краем на мокрой стене, помню неуловимое движение, которым героиня стягивает перчатки с маленьких сухих ладоней, помню фиалки: «сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов». Для меня это образец писательского мастерства.
Набоков ведь не зря только в литературе и существует: все эти ощущения нельзя передать через экран. Единственный неудачный, на мой взгляд, фильм Стэнли Кубрика — именно по набоковской «Лолите». Как только ты визуализируешь, показываешь эту девочку, ее белые носочки, и ножки, и лицо Гумберта Гумберта — все вдруг становится гораздо более плоским. И пошлым. Проза Набокова — удивительная, завораживающая, внутри себя живущая сущность, явление искусства, как греческая скульптура. Вроде и понятная, и совершенно непонятная, пришедшая из другого времени, сделанная из другого материала. Она неоспоримо и бесконечно прекрасна.
Осип Мандельштам
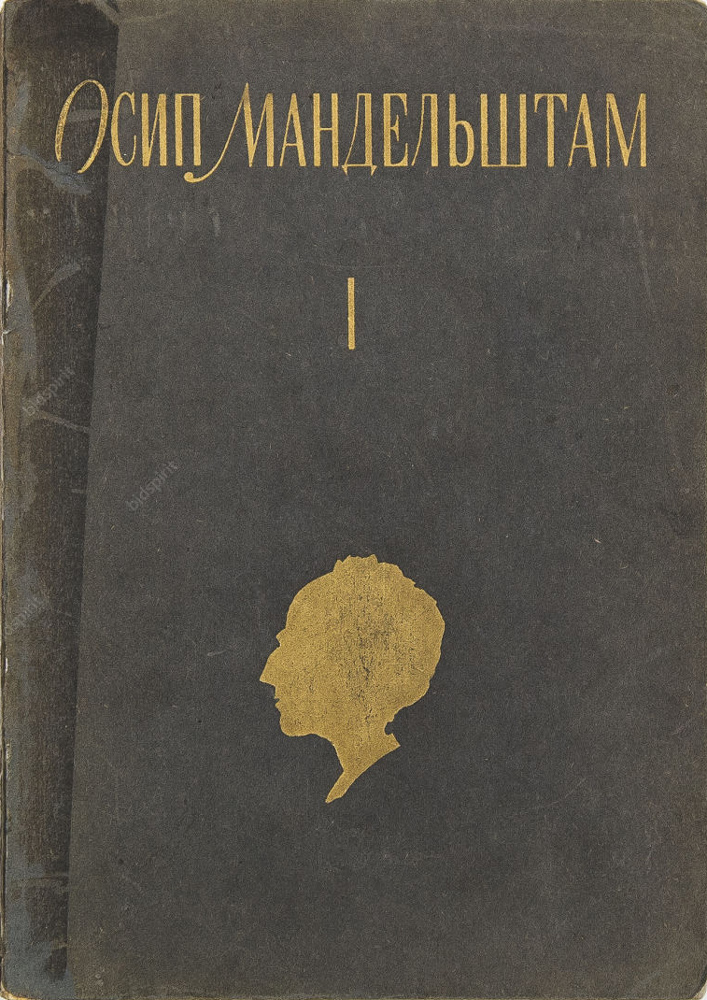
Мандельштам — своего рода заболевание. Для меня человек, не читающий Мандельштама, не говорящий его цитатами, просто не понимает поэзии. Все стихи — от Пушкина и дальше, весь Серебряный век, вся Ахматова — подготовка к высшей ступени поэтического творчества, мандельштамовского. Он поднялся на эту ступень, видимо, ценой жизни, как и все большие поэты.
Мандельштам создавал стихи, начиная с ритма. Его жена, Надежда Яковлевна, пишет в своих воспоминаниях, что он начинал гудеть: ритм как будто овладевал им изнутри, человек вылавливал его и следовал за ним. Сначала появлялся ритм, потом слог, слово, потом опять это пение. Он как будто бы вынимал это стихотворение из мира уже созданных не человеческой, а какой-то иной таинственной поэтической силой.
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
Ведь интересно, что такое поэзия. Например, в скандинавской мифологии, у викингов, поэзия была языком войны. В момент появления врага, на пике экстатического напряжения, воин начинал говорить стихами. То есть была простая жизнь, а была жизнь, наполненная яростью и героизмом возможной смерти, когда даже берсерки, эти сумасшедшие воины, опившиеся мухоморов, которые могли в одиночку сражаться с сотней противников, начинали говорить стихами. Мистический мед поэзии — может быть, тоже мухоморный — питался силой и в то же время как бы давал эту силу. И Мандельштам в этом смысле умел добывать из небытия вот этот дикий загадочный мед. Ислам, кстати, тоже считает, что удел мужчины — война и поэзия, что-то подобное есть в Коране. Именно поэтому Мандельштам, существовавший во вселенной высокой поэзии, не мог не написать про кремлевского горца — это и была его война. Казалось бы, более мирного человека представить невозможно, но для Мандельштама «Что ни казнь у него — то малина, / И широкая грудь осетина» стало боевой песнью. Он не сумел в этой войне победить, но и не участвовать тоже не смог.
Мандельштам — мостик в загадочный мир поэзии, который, видимо, существует вне нас. Если есть другая вселенная, где все великие стихи уже написаны, если есть другое небо, которого мы не видим, но чувствуем, — неведомое пространство, наполненное энергией слов и ритма, где эти стихи плавают, как живые сияющие шары, — то Мандельштам и есть добытчик тех шаров, переводчик небесного в земное.
Как читать Мандельштама
Объясняем на примере пяти стихотворений
Агата Кристи. «Убийство Роджера Экройда»
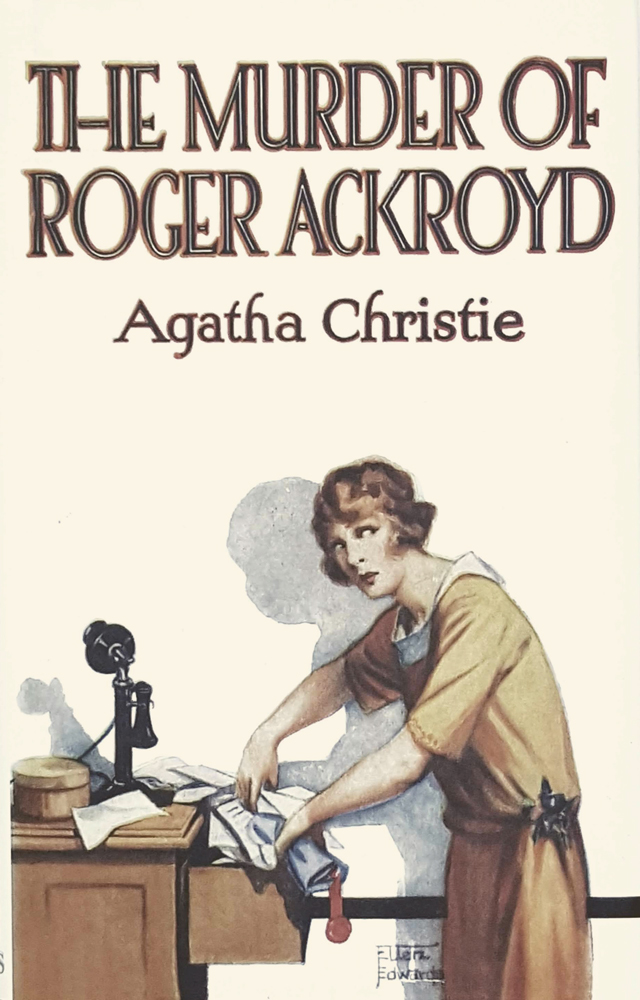
Обложка романа Агаты Кристи «The Murder of Roger Ackroyd». Лондон, 1926 год
William Collins, Sons
Агату Кристи я начал читать, когда меня выгнали из французской школы и я перешел в английскую. Надо было догонять, подтягивать язык, и преподаватель, чтобы заинтересовать, таскал мне маленькие pocketbooks, книжечки Агаты Кристи. Я продрался через языковый барьер и стал читать ее в огромных количествах.
Если до этого мы говорили о литературе, которая воплощает победу искусства, эмоции, вдохновения над разумом, то Агата Кристи, наоборот, чистая победа разума. Ее книги написаны как блестящая шахматная партия. Она ведь и писала их тогда, когда мир был очарован шахматами, когда кумирами были Эмануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка и Александр Алехин — на их игру люди съезжались как на яркое зрелище, сидели с блокнотиками, записывали ходы и композиции и изумлялись, как у них на глазах происходит интеллектуальное волшебство.
Точно так же книги Агаты Кристи — пример интеллектуального волшебства, победа ratio и торжество англосаксонской культуры. Суховатым языком шахматных партий она ухитрилась довольно много рассказать об этом мире. Герои Кристи в какой-то мере разрушали романтическую традицию английской литературы XIX века: ее убийцы всегда обаятельны, ее образцовые семейные пары оказываются или соучастниками преступления, или братом и сестрой, а вовсе не влюбленными. Там, где мы ищем заговор, выясняется, что убийца губил случайных людей, чтобы внутри этого списка спрятать того одного, от которого хотел избавиться. Агата Кристи — невероятный гроссмейстер создания этих типов, у нее сюжет и характер неотделимы друг от друга.
Ее постоянно действующие герои воплощают две доктрины, два подхода к раскрытию преступлений. Эркюль Пуаро — слегка карикатурный бельгиец: ни для кого не секрет, что в Англии не любят иностранцев. Старушка мисс Марпл — классическая англичанка. Пуаро разъезжает повсюду — там откроет убийство, тут разоблачит мошенника, — мисс Марпл, наоборот, почти не покидает своей деревни. Пуаро говорит: «Не доверяйтесь видимому, ищите глубокую внутреннюю заинтересованность, нереализованные комплексы, подавленные страсти — именно они приведут вас к разгадке там, где кажется, что внешне все очевидно». Идея мисс Марпл состоит в том, что мир — это театр, который движется одними и теми же страстями и механизмами. Чтобы раскрыть запутанное преступление в высшем обществе, она говорит что-то вроде: «Помню-помню, служанка Мэри хотела украсть серебряные ложечки, так она подложила одну ложечку дворецкому…» То есть для нее картина большого, сложного, полного интриг мира всегда сводится к микроситуации, и оказывается, что все мы в каком-то смысле марионетки, которыми управляет один и тот же кукловод, что преступление всегда движимо едиными законами — неважно, совершает его садовник или потомственный аристократ.
«Убийство Роджера Экройда» — поразительно запутанная история. Помню, с каким напряжением я следил за перипетиями отношений мистера Экройда, его приемного сына, бесчисленных экономок и служанок, с которыми у каждого из героев случались важные для сюжета интрижки. Там постоянно возникали новые персонажи, какие-то незамужние сестры, вдовые тетушки, молчаливые секретари и болтливые соседи. Вся эта причудливая композиция непрерывно дышала и двигалась: появлялись и исчезали следы, письма, кинжалы, кольца, черт знает как ловко протягивались ниточки — и как крепко был завязан каждый узелок. Для меня «Убийство Роджера Экройда» — вершина того жанра Агаты Кристи, где всегда есть симпатичный, обаятельный рассказчик, альтер эго автора, только здесь парадоксальное сознание автора делает рассказчика еще и убийцей. В общем, читатель, который готов воспринимать чтение как интеллектуальную работу, так или иначе должен переболеть Агатой Кристи.
Чем травила своих героев Агата Кристи?
Выпуск нашего алкогольно-исторического подкаста, посвященный Агате Кристи и ее времени
Джером Дэвид Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»

Обложка романа Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Москва, 1991 год
© Издательство «Правда»
Я бы сказал, что Сэлинджер дал интеллигенции право на слабость, разрешил человеку думающему рефлексировать и быть не вполне нормальным. А еще — некоторым образом избавил людей от одиночества. В этом и состоит огромное значение литературы: в преодолении ментального одиночества, комплекса изгоя. Сэлинджер дал право на существование огромному количеству интеллигентных людей, которые чувствовали себя чужими в этом мире, которые, как герой «Над пропастью во ржи», робели наглых швейцаров, чувствовали какую-то невыраженную боль, не понимали, зачем живут. Он обрисовал, точнее даже создал, некоторое племя — я бы назвал их современным словом — фолловеров. Своими текстами обнажил чувства и эмоции, которых тысячи людей стыдились, прятали, считали, что это их беда, их порок, их слабость, не признавались в них никому. Он их — точнее, нас — объединил, дал право на существование, на нормальность, на то, что мы должны принять себя и жить так, как живется.
«Вы хорошие, — сказал он нам, — вы хорошие!» Невозможно же не влюбиться в Холдена Колфилда, потому что в него влюблен сам Сэлинджер — это полное прощение, легитимация слабости и неуверенности в себе. Более того, слабость вдруг оказывается важным элементом личности, она — витамин, который питает образ, полный невероятного обаяния. Тот, кто прочел Сэлинджера в юности, никогда его не забудет и, может быть, пронесет вот это умение прощать слабость и любить ее — в себе и в других — через всю жизнь.
Лоренс Стерн. «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
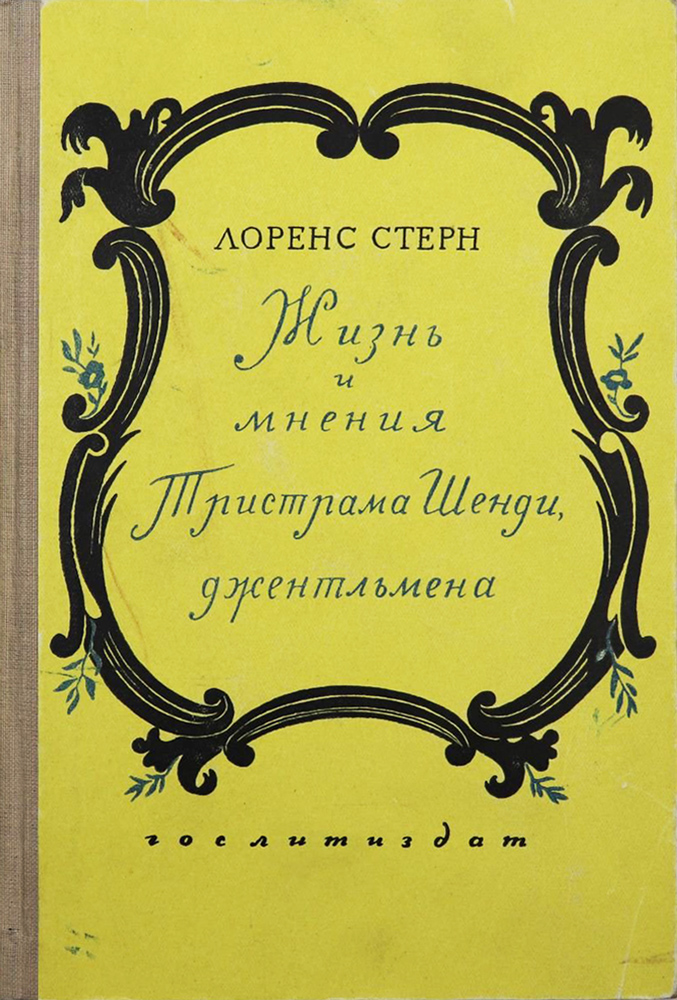
Обложка романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Москва, Ленинград, 1949 год
Государственное издательство художественной литературы
Часто за книгой, которую мы любим, таится неведомый мир, люди, подобных которым мы не встречали. Стерн открывает нам тайну Англии. Если когда-то мы воспринимали ее как общество жесткое, невероятно рациональное и чопорное, при этом жестоко и агрессивно завоевывающее колонии, то Стерн открыл нам иные типы характеров и отношений, очень многое про Англию объяснившие. Я люблю «Тристрама Шенди» именно за это разоблачение. Англичане, которые всю жизнь демонстрировали нам бронированную стену, крепость, закрытый остров, элитный клуб джентльменов — бокс, гольф, богатство, остроумие, непромокаемость для внешней жизни, — вдруг предстали живыми людьми.
«Тристрам Шенди» сдернул занавеску с их образа, показал великую тайну, которую англичане так тщательно прячут от мира. Что же они скрывают? Оказывается, свое безумие и чудачества, свою слабость и придурь, свою прелестную наивность, детские обиды, сумасшедших дядюшек — все это «Тристрам Шенди» открыл для нас. Скрывают, что недодали пудинга в детстве, что отец не любил. Но и отца не любили — что утешает, конечно. Чем, к примеру, занят дядя героя? Штурмом фальшивой крепости, построенной при помощи садовника и швейцара, — вот и все его великие военные победы. В этом огромная самоирония, саморазоблачение, здесь есть нечто, от чего тает сердце. Можно провести, наверное, пунктирную линию от не уважающего своих героев Шекспира к «Тристраму Шенди», от «Шенди» — к Эдварду Лиру, от Эдварда Лира — к Джойсу, к книгам, превращающим безликую массу под названием «нация» в живых людей.
Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени» и стихи
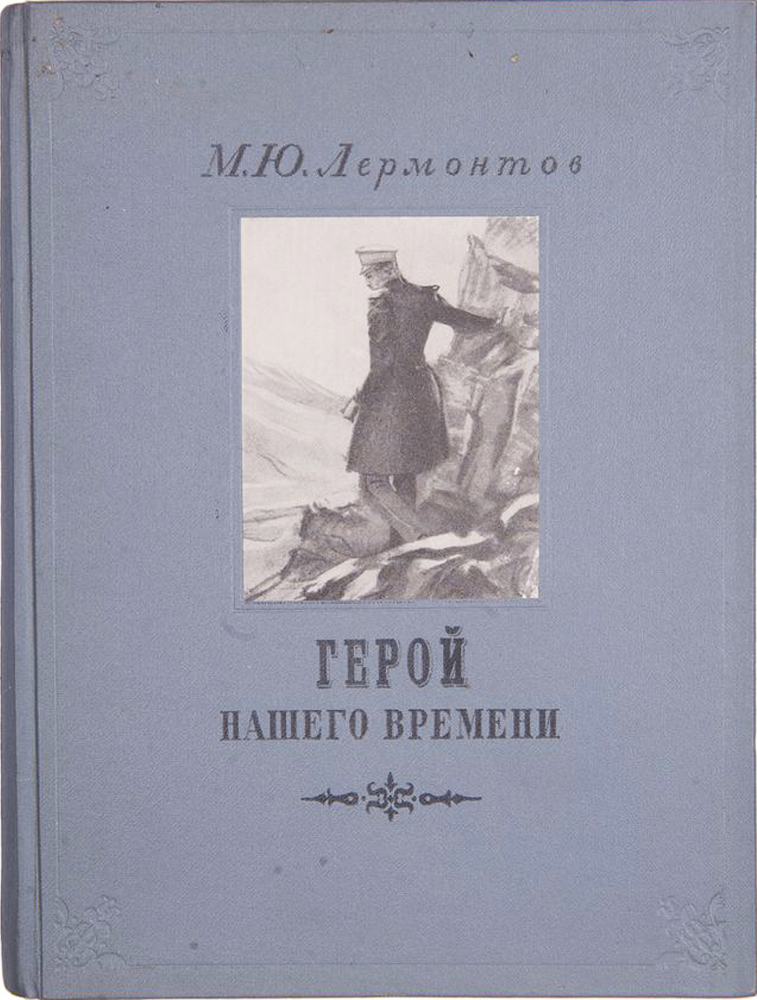
Обложка первого тома собрания сочинений Михаила Лермонтова. Санкт-Петербург, 1891 год
Магазин антикварных книг «Артель»
У нас в доме был изумительно красивый двухтомник Лермонтова, дореволюционный, думаю, издательства Маркса, в роскошном сафьяновом переплете, на тонкой бумаге, с красивейшим шрифтом. Сама эта книга в детском восприятии была как драгоценная шкатулка.
Для меня в Лермонтове соединяются две совершенно разные составляющие. С одной стороны, он, по моим ощущениям, очень близок к Мопассану — яркой юношеской чувственностью, какой-то нереализованной сексуальностью, которая, видимо, в нем клокотала. С другой — в нем видимым образом бурлит такой же юношеский жар мужественности, поэтому Кавказ, поэтому дуэли, пистолеты, кинжалы, жеребцы. То есть опять мужской удел, опять поэзия и война.
Еще Лермонтов — совершенно невероятный источник языка, реакция на речь, на слог, на слова. Надо же, из двух великих стилистов русского языка (Пушкин и Лермонтов) один — арап, другой — шотландец! Как будто таинственные генетические замесы проявили что-то, чего до них никто не слышал, не чувствовал. Ладно, Пушкин — «наше все», но откуда у Лермонтова этот кастальский источник, эта искрящаяся струя небывало чистого языка? Это природное чувство языка у совсем юного человека по-другому заставляет воспринимать его внутренний мир, его раннюю смерть — будто бы он слишком рано пригубил ядовитый кубок, будто бы, как в сказках, поторопился выпить из источника бессмертия.
Кристально чистым языком он приоткрыл завесу тайны бытия. Не зря Лермонтова любят простые люди — продавщицы, таксисты, — я говорю об этом без тени высокомерия, точно так же находясь в зоне притяжения его великого магнита. Говорят, он был несносен в жизни, невыносим в обществе и при этом был абсолютным аристократом в смысле закрытости внутреннего мира.
Конечно, мы имеем дело с человеком, состоящим в глубоком внутреннем конфликте с николаевской Россией. В Лермонтове аристократизм духа проявлялся в том числе через глубинное внутреннее диссидентство: он не спорил с этой властью, но было очевидно, что сама система — самодержавная, бюрократическая — была ему отвратительна. По типу личности для меня Лермонтов близок Чаадаеву: хотя первый никогда не писал на политические темы, совершенно очевидно, что он глубоко чувствовал и потому отторгал сущность режима, в котором существовал.
Этот яд понимания вместе с ядом безупречного языка — двойной самоубийственный дар, которым наградила его природа, будто бы заранее определив жребий поэта. Ему словно и не дано было жить дольше, несмотря на богатство, несмотря на бабушку, несмотря ни на что, — так сильно было в нем неприятие рабской жизни. Аристократизм Лермонтова не давал ему принять ее ни в чем — ни в любви, ни в армейской службе, ни в государственном устройстве, ни в кавказском мире «Героя нашего времени», где тоже много рабства. Этот экзистенциальный поиск свободы и есть, очевидно, источник огромной силы Лермонтова, его непобедимых чар.
Не тот герой нашего времени
Как Лермонтов, написав роман в двух частях, обманул Николая I и других читателей
Борис Виан. «Пена дней»

Обложка книги Бориса Виана «Пена дней». Москва, 1983 год
© Издательство «Художественная литература»
Литература сродни истории любви. Вместо того чтобы говорить о чтении, которое на тебя повлияло, можно было бы рассказать историю влюбленностей, когда ты говоришь о книгах как о девочках: вот была девочка в пятом классе, с бантиками, потом другая — в восьмом, с коленками, с тайной жизнью, уже слегка порочная, которая даже не смотрела на тебя, но ты понимал, что ей доступны какие-то неизвестные тебе отношения. Точно так же Виан — история моей влюбленности на определенном этапе взросления.
Впервые я читал его в оригинале, когда моя мама возобновила старые, еще довоенные знакомства с французами времен первой эмиграции и к нам стали приезжать ее взрослые друзья и их ученики. Лида Вернан, мамина ближайшая подруга, преподавала русский язык в парижском университете и часто привозила книги и пластинки. Так ко мне лет в 15–16 случайно попал Борис Виан — это была серия французских pocketbooks под названием «10/18». Я не знал тогда ни Хармса, ни Олейникова, и Виан стал для меня первым острополитическим абсурдистом.
После «Пены дней» со мной произошло что-то невероятное: я просто влюбился в автора и стал просить, умолять, требовать, чтобы все мне везли Виана. У меня были полные собрания его сочинений, были отдельные книжечки — от юношеских рассказов до больших книг. Он тогда набирал популярность, это было некое предчувствие 68 года, когда студенчество в Париже бурлило, Виан для них был, наверное, важен как некоторый символ протеста, отрицания привычного порядка, буржуазности, здравого смысла. Про Виана издавались большие альбомы с фотографиями — так я узнал, что он был завсегдатаем Сен-Жермен-де-Пре, где собиралась литературная богема, что пьянствовал, что играл на трубе и подрабатывал в джаз-клубах, что в книгах описывал своих близких друзей, что вокруг него концентрировалась своего рода банда — модная, популярная, как сказали бы сегодня, тусовка, в каком-то смысле абсолютно безжалостная к себе и окружающим: клубы, подвалы, отсутствие денег, неприятие себя всерьез — они просто жили, проживали эту жизнь.
Первые романы Виан написал под именем Вернона Салливана — несуществующего негритянского писателя: «Я приду плюнуть на ваши могилы», «Женщинам не понять», «Уничтожим всех уродов». Потом начал писать под своим именем. Я прочитал всё: «Красная трава», «Осень в Пекине», потрясающий «L’Arrache-cœur» — «Сердцедёр».
Хочу похвастаться: русские переводы Виана появились благодаря мне. Прочтя «Пену дней», я начал уговаривать маму ее перевести. Поначалу она этого автора не принимала, говорила: «Не понимаю, чем он тебе нравится». Но я спорил, настаивал. У мамы был друг, Вениамин Наумов, и вместе с ним она все-таки перевела «Пену дней» — в довольно больших муках, поскольку книга эта вся состоит из каламбуров, из игры слов и смыслов. Там, например, вместо Жан-Поля Сартра есть герой Жан-Соль Партр, который въезжает на слоне в студенческий Париж, и все встречают его с опахалами. Там на каждую свадьбу зовут двух почетных геев в цветных фраках, pederast d’honneur — орденоносных, что ли, я не знаю, как это перевести. В центре Парижа там ледовые катки, где люди катаются на коньках, разгоняясь так, что разбиваются о бортики в лепешку, их уносят автоматические подметальщики. Там у главного героя в квартире раковина, которая поставляет угрей. Чтобы выманить угря, надо в течение недели класть в раковину булочку. Когда на восьмой день ты ее не кладешь, угорь вылезает, спрашивает: «Где булочка?» — тут-то ты его и ловишь. Там есть страшно циничный майор со стеклянным глазом, в самые неподходящие моменты он достает этот глаз и чистит.
Это были 60-е годы — в своей иронии и абсурдистском цинизме Виан сильно опередил время: «Пена дней» написана как будто сейчас. Когда мама разобралась с чудовищными каламбурами, с непереводимой игрой слов, она поняла молодость этой поразительной книги.
Владимир Войнович. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»
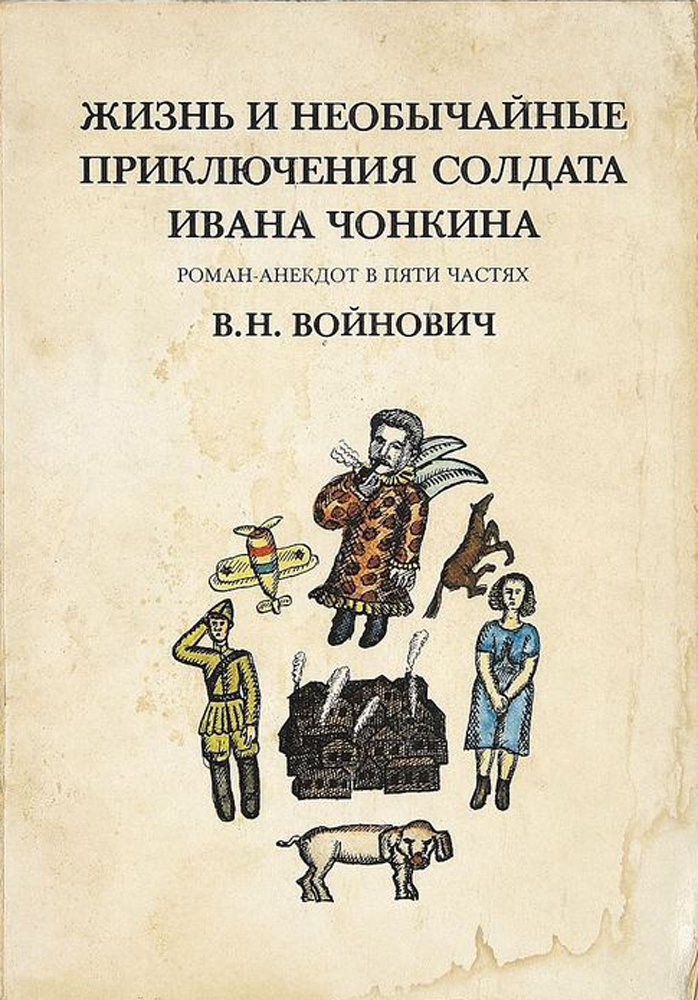
Обложка романа Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Париж, 1975 год
© YMCA-PRESS
Войновича привел к нам в дом Виктор Платонович Некрасов, который имел ужасно острый глаз на талант. Войнович был смуглый, крепкий, невысокого роста — я хорошо его запомнил. Во взрослом возрасте мы с ним много общались, практически до самой его смерти. Он хотел, чтобы я экранизировал его книгу «Москва 2042», мы вместе ее читали, там было много невероятно провидческих моментов, включая соединение патриархии с ЦК КПСС.
Володя Войнович — что-то вроде нашего современного Николая Лескова с его «Левшой»: «потная спираль», «Аболон Полведерский» вместо «Аполлона Бельведерского», то, что потом стало у нас «полуклиникой» вместо «поликлиники», и так далее. Какое-то великое бескультурье, в то же время симпатичное, доброжелательное, неагрессивное. Он очень остро чувствовал эту абсолютно имитационную культуру. «Чонкин» и есть такая лесковская вещь, где ужас нашего существования описан в простых и примитивных словах, но при этом словах радостных. Не критика, которая звучала тогда у многих диссидентских писателей, а как бы восхваление мира, но от этих похвал хочется выкинуться в окно: все очень плохо, а люди воспринимают это как норму. Точно так же у Лескова: когда Левшу заточили в избу, там была такая невероятная вонь, грязь и дым, что «от безотдышной работы в воздухе… потная спираль сделалась». Это про наши колхозы, про наших председателей, про то, как люди голодающие, поскольку у них нет трудодней, мечтают страшным мичуринским умом вырастить гибрид «Путь к социализму», сокращенно — «ПУКС», чтобы внизу — картошка, а наверху — помидоры, чтобы это колосилось, чтобы всю Россию этим засадить. Войнович чувствовал что-то очень точное про эту страну, что-то очень глубоко в ней любил.
«Чонкина» и надо читать, чтобы любить свою родину такой, какая она есть. Любить эту неловкость, эту неуклюжую мечту о колосящихся помидорах с картофельными корнями, которые, кстати, по сюжету съедает случайно забредающая на экспериментальный огород корова, что тоже так по-русски! А сам Чонкин, конечно, это наш бравый солдат Швейк: смешной, но очень здравомыслящий, смышленый, хитрый. Всегда выкрутится, отовсюду вырвется, с голоду не помрет, его не арестуешь, не посадишь, а посадишь — он в тюрьме выживет и, как ванька-встанька, будет бесконечно вскакивать на ноги. Но от того, как он кувыркается, как поднимается, волосы встают дыбом, и при этом ты смеешься. Как это Войновичу удается?
Чжуан-цзы. Притчи
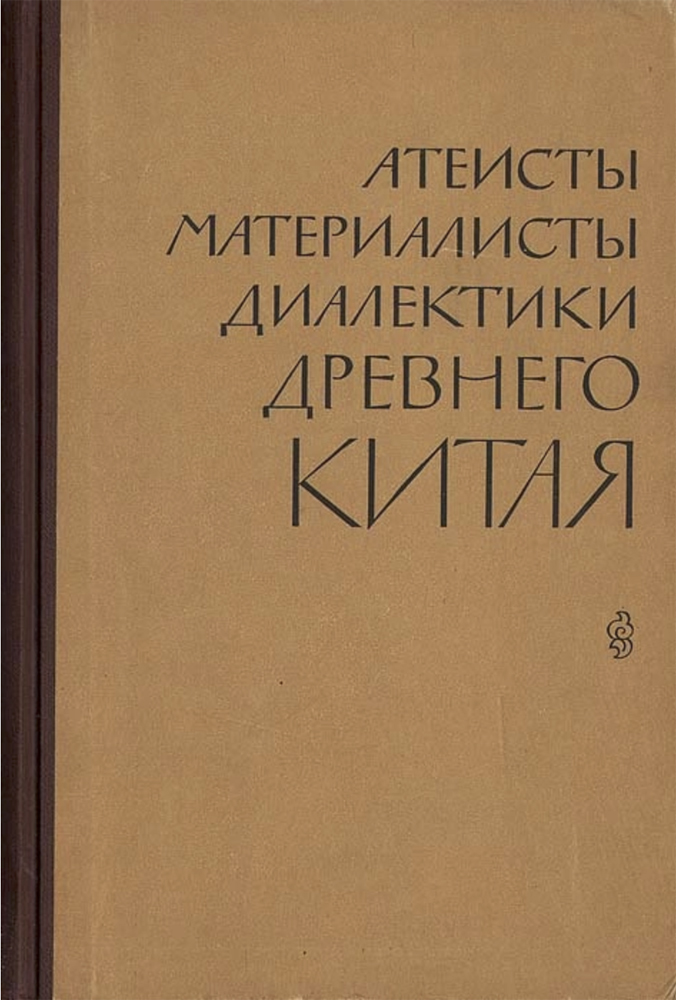
Обложка сборника, включающего притчи Чжуан-цзы, «Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая». Москва, 1967 год
Перевод Любови Позднеевой.© Издательство «Наука»
В 70–80-е годы я окончательно осознал, что не смогу в этой стране ничего делать, что талант и юмор здесь не нужны, что большую литературу я не потяну: человек я для этого слишком слабый, не могу засадить себя в железную клетку. Что единственное доступное мне занятие — писать маленькие сценарии для детских комедий. Что нет и не будет путешествий, о которых я мечтал, что Париж и Нью-Йорк останутся открытками от приятелей, которые иногда прикалываешь к стене, иногда от этой стены отрываешь. Тогда мне случайно и попался Чжуан-цзы — редкая старая книжка, по-моему, 1949 года издания в переводе Любови Позднеевой, «Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая». То есть самых идеалистических и самых безумных людей надо было назвать материалистами, чтобы книгу напечатали. Я до сих предпочитаю этот перевод, потому что позже и Чжуан-цзы, и Лао-цзы издавались, переведенные умными философами, кантианцами и гегельянцами, став заумными и сложными. А та, первая, была ясная и прозрачная, как суп фо.
Это сборник коротких притч, одну из которых мы знаем благодаря Сэлинджеру — он тоже был под огромным влиянием Чжуан-цзы. Это знаменитая притча про лошадь — Сэлинджер пересказывает ее в «Выше стропила, плотники». Император искал великую лошадь, посылал за ней разных гонцов, в результате старый торговец хворостом сказал, что нашел белую кобылу. На поверку белая кобыла оказалась вороным жеребцом, и все поняли, насколько торговец хворостом велик, ибо для него не важна разница между жеребцом и кобылой, между вороным и белым — «прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем».
Чем для меня был так важен даосизм? Мы жили тогда в стране ужасной, мертвой формы — мертвая форма на мавзолеях, мертвые речи на собраниях, мертвый бюрократический язык вывесок и газет. От того так понятна и близка была идея Чжуан-цзы о том, что форма всегда ложь, а если ты не помещаешься в форму, то, скорее всего, несешь в себе тлеющий уголь истины — и в этом твоя сила. Знаменитый вопрос Чжуан-цзы «Где были преступники, пока не появились судьи?» — это отрицание власти слов. Величайшее философское учение отрицает слово как явление, Чжуан-цзы говорит, что слова всегда лукавство, что слова используются для прикрытия пустоты или лжи. Бесспорно, любая мысль изреченная есть ложь. «Знающий не говорит, говорящий не знает» — это все бесконечные уроки дзен-буддизма, возможность уйти внутрь себя, отказаться от внешних успехов, от денег, от славы, от всего остального.
В Индии, например, брахман имеет право добиваться славы и денег. До нас дошли рассказы о великом брахмане, который тысячи лет стоял на большом пальце левой ноги, пока боги не испугались и не сказали: «Хватит! Своим аскетизмом ты нам все разрушишь!» Но ничего похожего нет у китайцев: во время войны всех мужчин забрали в армию, а старого Лю, у которого горб возвышался над головой, а подбородок упирался в пупок, не взяли. Всех убили, а Лю остался жив — это какая-то своя, особая правда, отрицающая героизм и славу в их привычной для нас форме, отвергающая внешнюю условность.
Мне это очень помогло, оправдав некую подавленную тайную гордыню и чувство, что просто живя, тоже можно двигаться вперед. Одна из моих любимых притч Чжуан-цзы — о том, что отражение луны в луже не спрашивает у луны, есть она или нет. Я — не луна, я — лужа, но когда выходит луна, я — ее отражение. Это происходит одномоментно, ты не должен над этим думать, а должен просто отпустить себя и постараться ловить живую жизнь, не лукавствуя, не делая и не говоря лишнего. В каком-то смысле именно благодаря Чжуан-цзы я выжил и мало чего в этой жизни боюсь.