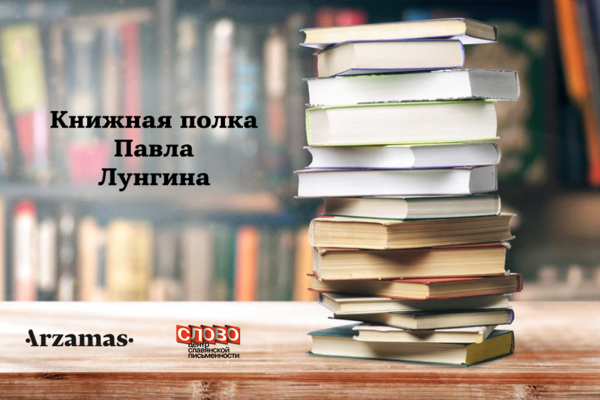Скоро Arzamas и Центр «Слово» на ВДНХ откроют библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. В новом выпуске рубрики — Андрей Макаревич
Жюль Верн. «Двадцать тысяч лье под водой»
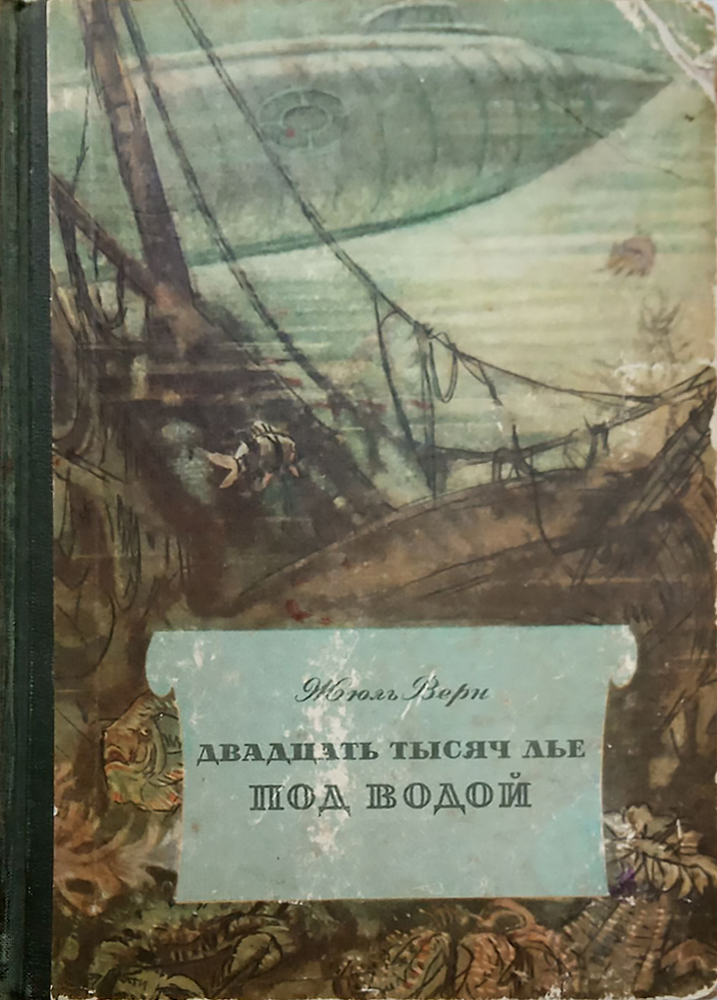
© Издательство «Молодая гвардия»
Любовь к этой книге для меня не вполне объяснима, хотя, впрочем, любовь не нуждается в объяснениях. Примерно тогда же, когда я ее прочел, я увидел фильм Жака Ива Кусто «В мире безмолвия», который шел на всех экранах мира как супербоевик. На Кусто я ходил раз десять, выстаивая дикие очереди за билетами. Никто ведь до этого не знал, как выглядит подводный мир, — это как если бы с Марса привезли съемку про марсиан. Моя страсть к дайвингу, безусловно, оттуда — и от книги «Двадцать тысяч лье под водой».
Когда я читал Жюля Верна, у меня перед глазами возникала картинка, отчасти навеянная моей собственной фантазией. Тогда это идеально попадало в мое восторженное состояние, утоляло жажду информации: как устроена подводная лодка, как устроены скафандры. Сегодня мне, дайверу со стажем, понятно, что местами это была полная ахинея, а местами — буквально современная инструкция, очень точная.
Кроме того, это было написано увлекательно, настоящий триллер: как они в этих скафандрах выходят на прогулку по морскому дну, как отбиваются от акул. Дико симпатичные персонажи: бородатый, грубый, большой канадец-гарпунер Нед Ленд, профессор Пьер Аронакс — интеллигент, худенький, тонкие запястья. Ну и разумеется, брутальный капитан Немо, который в моем представлении был, конечно, очень похож на молодого Владислава Дворжецкого — его я увидел значительно позже, но представлял себе именно таким. Из двенадцатитомного собрания сочинений Жюля Верна у меня осталась только эта книжка, и я боюсь ее перечитывать — не хочу разрушать то очарование подводным миром, которое она мне подарила и из которого выросло одно из главных моих увлечений.
Новый Завет
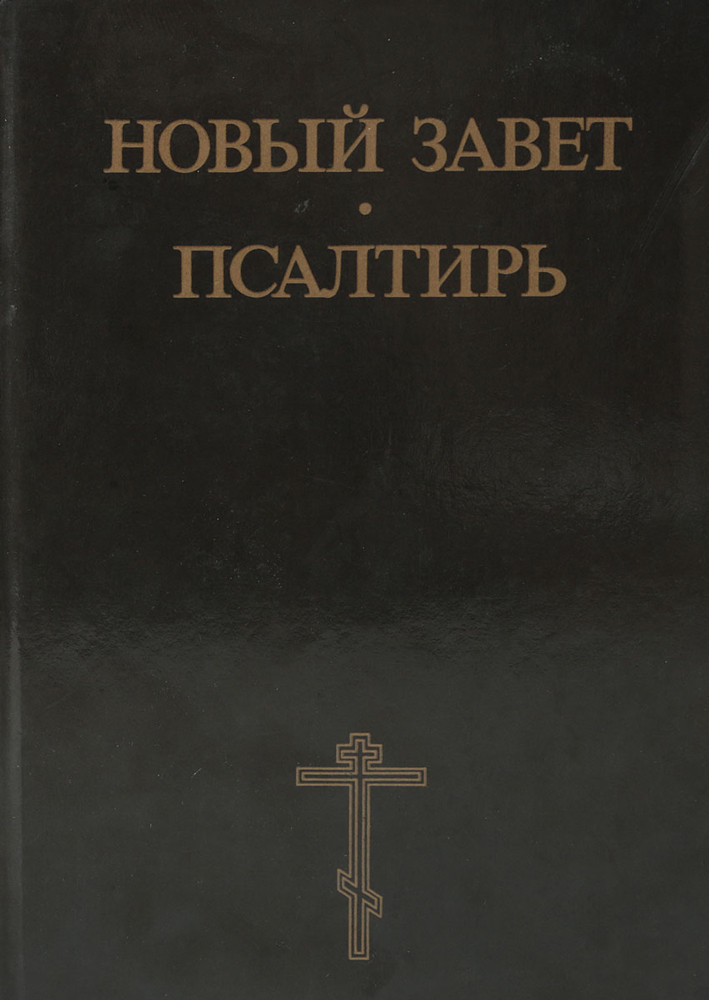
© Внешторгиздат
Новый Завет — первая из прочитанных мною сакральных книг. Ее подарил мне товарищ, отец Самуил, проповедник в баптистской церкви на улице 25 Октября, ныне Никольской. Молодой парень, он тусовался с музыкантами, а на его проповеди собиралось большое количество людей — отец Самуил очень хорошо говорил. Подаренный им Новый Завет был издан в Канаде — в карманном формате и на тончайшей бумажке. Я читал его как беллетристику — и по сей день для меня это прежде всего большая литература, драматическое произведение о страшной судьбе человека, написанное прекрасным языком.
Роберт Стивенсон. «Остров сокровищ»
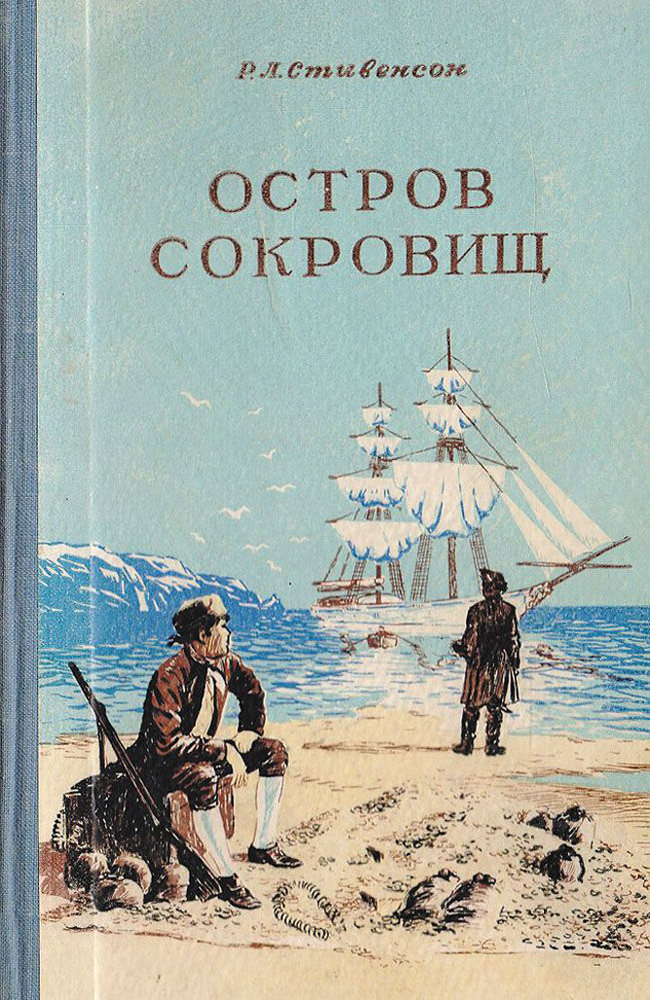
Архангельское областное государственное издательство
Была такая серия «Библиотека приключений», серо-желто-красная: «Дети капитана Гранта», «Шерлок Холмс», «Робинзон Крузо», «Копи царя Соломона» — вот это все. Седьмым томом 1957 года издания был «Остров сокровищ». Моря, пираты, сокровища — как же это было прекрасно! А пиастры! Смешно, что слова «пиастр» нет в английском языке, в оригинале у Стивенсона было piece of eight, «восьмушка доллара», испанского доллара . А «пиастры» — находка переводчика. Но в мире пиастры есть — мало того, под этим словом подразумеваются совершенно разные золотые и серебряные монеты. Но, конечно, главное в «Острове сокровищ» — это люди, абсолютно живые люди. Мальчик Джим Хокинс, Билли Бонс, человек со шрамом, и, конечно, одноногий Джон Сильвер — что за образ, что за характер! Великий роман.
Александр Дюма. «Три мушкетера»
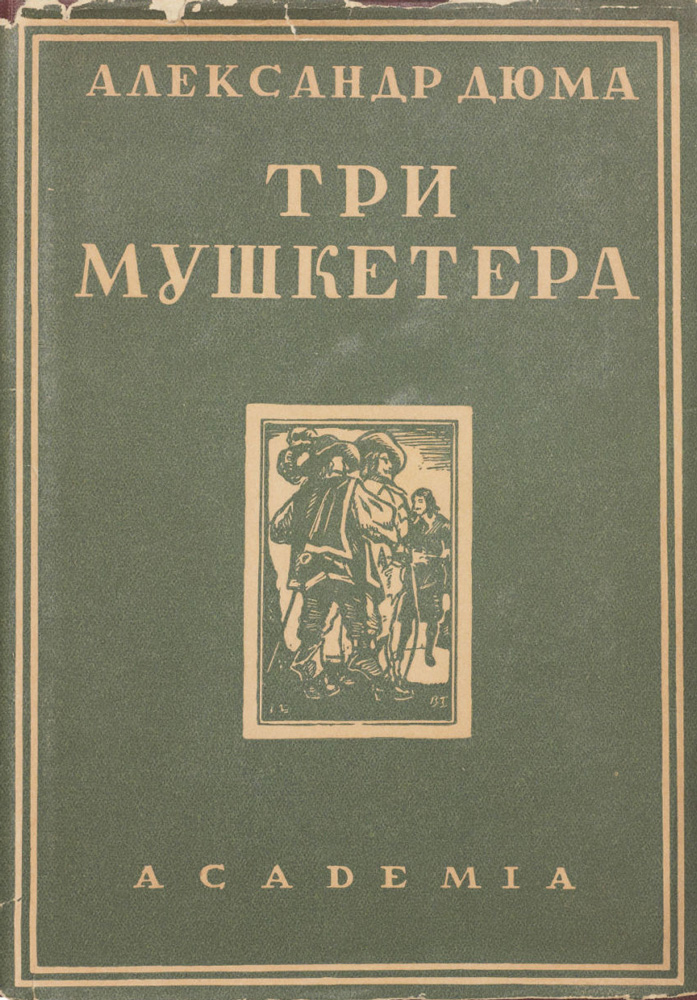
Издательство Academia
Еще один великий роман — и ровно по той же причине: невероятные приключения и невероятно живые герои. Количество цитат из «Трех мушкетеров», которое сидит в моей голове, сравнимо мало с какой книгой: «Шампанского!» — «Портос, за нами же гонятся!» — «Ты прав, для погони больше подойдет красное вино». Это же великолепно, правда? «А ведь этот еще из лучших», «Друг мой, для Атоса это слишком много, для графа де ла Фер — слишком мало» — всю нашу жизнь можно распределить по этим цитатам. «Три мушкетера» всегда стояли у меня на полке, пусть постоят и на этой.
Владимир Набоков. «Приглашение на казнь»

© Editions Victor
Это была первая книга Набокова, попавшая мне в руки (тогда еще запрещенная «Лолита», «Дар», «Камера обскура» случились намного позже). «Приглашение на казнь» дал мне почитать товарищ, преподававший в Университете дружбы народов, — он имел доступ к литературе, за которую в то время можно было, мягко говоря, сильно схлопотать. Передача завернутой в газету книжки была обставлена по-шпионски и сопровождалась всеми тогдашними предостережениями: газетную обертку не снимать, в метро не читать, никому не говорить, где взял, вернуть через два дня.
Я открыл книгу и буквально обалдел: это не было похоже ни на что, а читал я немало. По сути, по духу, по полету фантазии, по смелости в советской литературе не было ничего подобного. Я всегда литературу расценивал прежде всего как музыку слов, и меня просто оглушил язык Набокова, контраст со всей знакомой мне на тот момент русской прозой. Словесная вязь, неотделимая от содержания, затягивала в себя, как воронка. Это было очень сильное впечатление. Сегодня я понимаю, что, наверное, отчасти оно подстегивалось запретностью — на неокрепшие юношеские мозги это сильно влияет.
«Приглашение на казнь» очень расширило мои представления о литературе и о пределах фантазии. А поскольку я все-таки уже сочинял, для меня это было невероятно важно. Пусть я писал не прозу, а песни, но в молодости все, что нас торкает, немедленно влияет на то, что мы делаем: мы, как зеркало, отражаем это в своих творениях.
Фазиль Искандер. «Сандро из Чегема»

© Издательство «Советский писатель»
Я всегда преклонялся перед прозой Фазиля Искандера, полной спокойного и мудрого чувства юмора. Именно юмор такого рода — тонкий, не солдафонский — я высоко ценю. Даже когда речь идет о самых серьезных вещах, с лица автора не сходит легкая улыбка. Специально такое не получится — думаю, это свойство Искандера как человека, такой Божий дар. Взять, к примеру, как дядя Сандро рассказывает, что отмена Сталиным депортации абхазцев — его, дяди Сандро, заслуга. Это невозможно воспринимать всерьез, но сочетание иронии и какой-то невероятно глубокой жизненной правды в том, как это рассказано, не может не восхищать.
Все, о чем пишет Искандер, на самом деле проекция мира на его маленькую, Богом забытую деревеньку. В принципе, это и есть наше представление о вселенной: то, чего мы не можем охватить взглядом и разумом, мы делаем соизмеримым себе и окружающим нас маленьким, понятным вещам. Иногда это упражнение позволяет постичь что-то огромное и важное. Именно так работает проза Искандера — мудрейшая вещь. А мудрость вербализовать сложно. Может быть, Искандер перед смертью замолчал на несколько лет именно потому, что вербализовал тот запас, который у него был. Думаю, он все рассказал — то, что сверху ему было дано и дозволено рассказать.
Исаак Бабель. «Одесские рассказы»
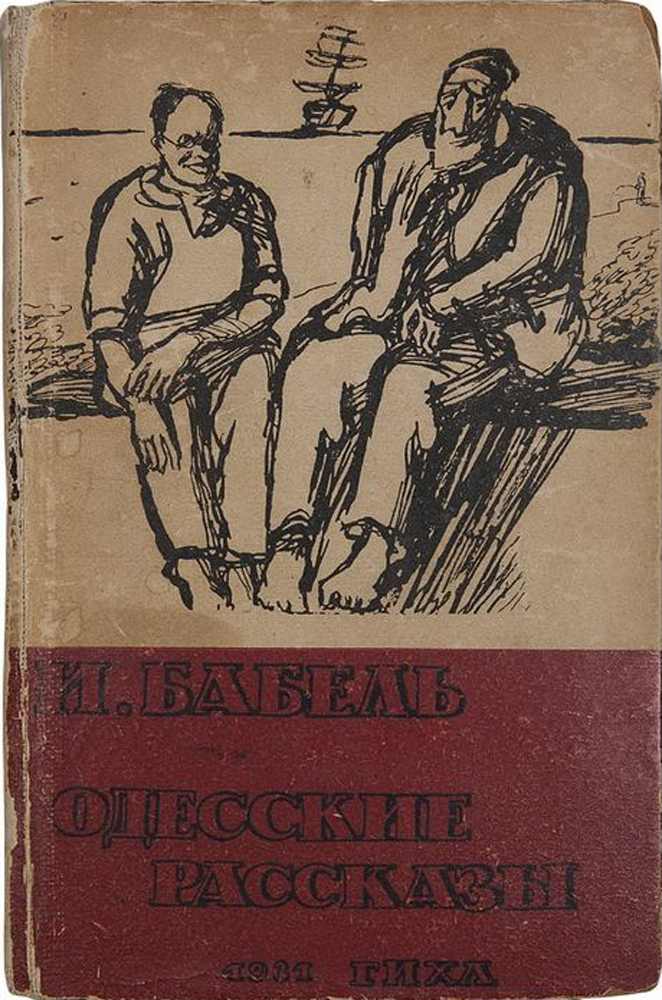
Государственное издательство художественной литературы
Бабель — это фантастический язык. Он абсолютно лишен пошлости, которой нас сейчас задавили те, кто эксплуатирует южный говор и сленг: «Ви-таки хотите поговорить за Одессу?» У Бабеля этот язык как будто взят куском из окружающего воздуха, настолько он живой, естественный и точный. В свое время я был им просто сражен: «Жена его была длинная и скучная как степь, с маленьким сонным личиком на краю» . Какой образ! Ты сразу видишь эту унылую тетку, и понятно, что она все время лежит. Бабель — счастье чтения и, что важно, счастье перечитывания. Немногие, даже самые любимые книжки выдерживают испытание временем так, что ты готов к ним возвращаться: чаще всего боишься разрушить очарование первого знакомства. Бабель в этом смысле — многократно и навсегда.
Василий Аксенов. «Ожог»

© Ardis
Василий Павлович всегда пишет немножко о себе. Я ему однажды пожаловался, что всякие мемуарные и эссеистские штучки у меня получаются нормально, но как только пытаюсь что-то сочинять — в песнях мне это дается легко, а в прозе не получается. Он сказал замечательную вещь, причем, как я сейчас понимаю, сказал про себя: «А ты пиши про то, что с тобой и правда было, а потом начинай подвирать — немножко, по чуть-чуть. Не заметишь, как увлечешься, и дело пойдет». Мне кажется, он так и делал.
Конечно, «Ожог», поразивший меня в свое время удивительным духом оттепели, наверное, остался там, в шестидесятых. Может быть, «Остров Крым» сегодня гораздо более актуален. Но для меня это не самое главное. Что это вообще за оценка — актуальность? «Ожог» был как вспышка — абсолютная свобода стиля обжигала и ослепляла: человек может заговорить с человеком, человек может заговорить с саксофоном — с одинаковой легкостью. Это невероятно совпадало с какими-то мыслями, которые приходят к тебе в полусне, которые ты иногда рисуешь, иногда превращаешь в мелодию, но тебе не приходит в голову изложить их на бумаге. А Аксенов очень свободно владел именно этим мастерством.
Первым Аксеновым для меня стала «Затоваренная бочкотара». Прекрасно помню, как папа сидит на диване и приговаривает: «Слушай, ну как разрешили? Как вот это разрешили?» Сейчас мы думаем — а что там было разрешать-то? Абсолютно, на первый взгляд, комсомольская история из журнала «Юность». Но был в этом какой-то новый дух свободы, непозволительный для советской литературы. Папа это чувствовал кожей, и даже я это почувствовал, потому что это было совершенно не похоже на все остальное. Ровно таким же образом подействовал на меня и «Ожог».
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»
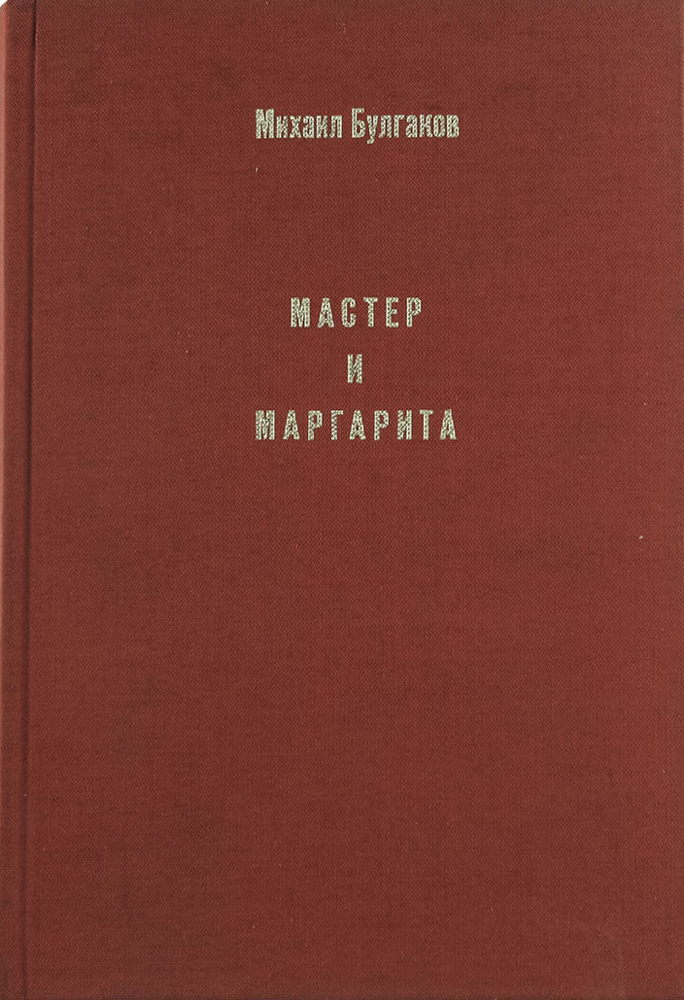
© Издательство «Посев» (Possev-Verlag)
Трудно объяснить силу воздействия этой книги, которая без преувеличения была шоком для советских людей. Шок понятен: в стране, где религия находилась известно в каком положении, рассказывается евангельская история. Достать почитать Новый Завет было проблемой, на тебя сразу же косились. Так что оттенок запретности, без сомнения, сделал свое дело. Но важнее гораздо то, что полузапретный сюжет был рассказан совершенно блестящим языком, особенным, ни на чей не похожим. Удивительный и при этом очень человечный, понятный язык Булгакова странным образом сближает две истории — запретную, которую очень хотелось узнать, и московскую, наполненную смесью веселого абсурда и трагической реальности. Это десакрализация сакральных вещей. Да, были «Библейские сказания» Зенона Косидовского, были «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна. Но вдруг простым человеческим языком тебе объясняют, что заповеди, библейские, евангелические, приложимы к каждодневной жизни — в том числе, что удивительно, к советской, — и это потрясает. Честь, достоинство, предательство — все это, оказывается, про сегодняшний день. Абсолютно человеческая история.
Илья Ильф, Евгений Петров. «Двенадцать стульев»
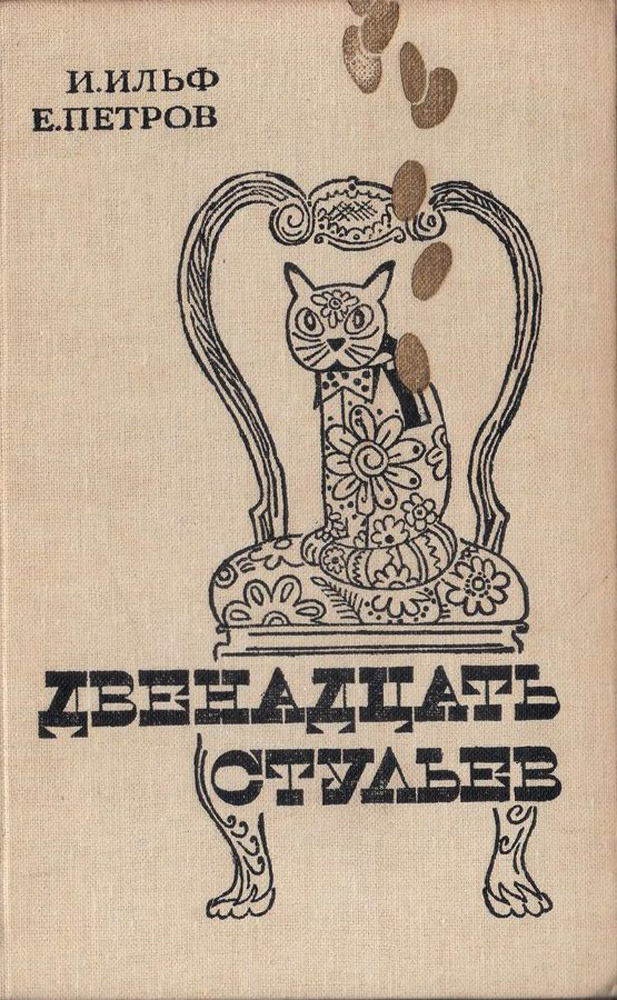
© Издательство «Правда»
Для наших родителей книги Ильфа и Петрова были безусловным индикатором: «свой — чужой». Это был по-настоящему интеллигентский юмор, рассчитанный на некоторую эрудицию. Взять цитаты Остапа Бендера, все эти «тайный „Союз меча и орала“», «мне Заратустра не позволяет», «пусть первый бросит в меня камень» — углядеть в этом намек на первоисточник, улыбнуться тому, кто тоже углядел и тоже улыбается. Бедная советская интеллигенция видела в этом отражение своего пассивного протеста против скучной действительности. Кроме того, эта книга писалась и долгие годы читалась во времена, когда люди еще помнили, что такое сатира. Если почитать комментарии к Ильфу и Петрову, можно просто с ума сойти: практически каждое слово высмеивает совершенно конкретную вещь, ситуацию или традицию. Сегодня, увы, мы оцениваем только юмор, только язык, но и этого достаточно, чтобы считать «Двенадцать стульев» уникальной книгой.
Ганс Хасс. «Мы выходим из моря»

© Государственное издательство географической литературы
Впервые эта книжка вышла в 1957 году, но у меня было переиздание в мягкой обложке. К тому моменту мне уже купили маску и ласты, я плавал в Черном море и очень хотел прочесть «В мире безмолвия», которая у нас была издана гораздо позже, а фильм уже прошел, вызвав дикое желание узнать больше. Но появился австриец Хасс со своей книгой, и мое любопытство было частично удовлетворено. Много позже я узнал, что его ненавидел Кусто — буквально всю жизнь потратил на его уничтожение, используя очень некрасивые методы. Рассказывал на каждом углу, что австрияк Хасс помогал Гитлеру.
Хасса действительно наняли на тренировку какого-то подводного спецназа, ну и что? Да, Австрия была на стороне немцев, австриец Хасс тренировал солдат своей страны. А ненавидел Кусто Хасса за то, что Хасс все сделал немножко раньше него. Он описал подводный аппарат раньше — правда, не акваланг, а ребризер, но это неважно. Он до Кусто снял подводный фильм.
С Хассом, кстати, связана удивительная история. В питерской марине нашли довоенную яхту без опознавательных знаков, и выяснилось, что это яхта Хасса, которую какой-то генерал пригнал в качестве трофея. На этой яхте Хасс как раз делал свои первые съемки в 30-е годы, а книгу написал уже в 50-е. Она была в мягкой обложке, на обложке рисунок: Хасс со своей женой Лоттой — Лотта была совершенная красавица — выходят из воды. Каждое слово в этой книжке было для меня очень важно, особенно все, что касалось акул. Думаю, с тех пор я в них и влюбился: это самые красивые рыбы, они лучше всего нарисованы природой. Акула существует 250 миллионов лет и за это время не изменилась. А что это значит? Значит, в ней нечего улучшать, она сразу была создана совершенной. Именно в книжке Хасса — истоки моей любви к этим существам.
Перси Фосетт. «Неоконченное путешествие»

© Издательство «Мысль»
Фосетт — уникальный парень. Английский подполковник, профессиональный топограф, он начинал артиллеристом на Цейлоне, потом работал на британскую разведку в Африке. В начале прошлого века по заданию королевы Елизаветы занимался маркировкой границ — он, собственно, проложил границы Бразилии. Мало того — проложил практически пешком. Последние десять лет путешествовал с двумя своими сыновьями и однажды не вернулся из джунглей. Игорь Фесуненко, наш блестящий журналист-международник, мне рассказывал, что побывал на том месте, где индейцы якобы убили и закопали Фосетта. Есть версия, что его сын обидел вождя индейского племени во время приема. Там же очень тонкая система традиций, правил, этикета: сделал неправильный жест, не отведал нужного блюда — и всё. Ночью их убили. Я в это не очень верю, потому что Фосетт хорошо знал обычаи и вряд ли мог так ошибиться.
Что касается самой книжки, она хороша тем, что это чистый отчет о путешествии, абсолютно лишенный каких-то литературных приемов, лишенный юмора, сухая история конкретных действий конкретных людей в конкретных обстоятельствах. К примеру, там описывается, как на протяжении месяца они едят по одной сардине из банки и по кусочку сахара в день — то есть это никак не приукрашенная история, но при этом дико захватывающая, потому что достоверная. Ты понимаешь, что вот так они прожили день в джунглях, вот так он ночью сел в палатке, вот так заполнил в своем дневнике следующую страницу. На меня это сильно подействовало — я завидовал Фосетту, мне страшно хотелось в Бразилию, хотелось в джунгли.
«Неоконченное путешествие» аукнулось спустя несколько десятков лет совершенно практическим образом. Однажды глубоко за полночь мне позвонил Саша Розенбаум. Я удивился: тогда мы были не настолько близкими друзьями, чтобы вот так набрать номер в три часа ночи. Вместо «здравствуй» он сказал: «Ты Фосетта читал?» — «Читал классе в восьмом-девятом». — «На Амазонку поедем?» Я, конечно, опешил. Говорю: «Давно хотел, но все как-то не получается». — «Решено. Я тоже давно хотел, а сейчас давай возьмем и поедем». И через полгода мы поехали. Так сработала книжка.
Игорь Акимушкин. «Следы невиданных зверей»

© Государственное издательство географической литературы
Акимушкина я нашел недавно в подвале — издание 1961 года. В 60-е годы ведь был настоящий бум научно-популярной литературы. Нарасхват были Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд — два чеха, которые объехали весь мир, их путевые заметки были переведены на десятки языков. Они писали про Африку, Бразилию, Аргентину — для советских людей, не имеющих шанса попасть за границу, эти книги открывали неведомую экзотическую вселенную. Акимушкин был похожим на них открывателем неведомого: он очень занимательно писал о неоткрытых, точнее неизвестных, животных и прочих существах: о снежном человеке, о лох-несском чудовище, о гигантской горной горилле, о коатах — огромных длинноногих обезьянах.
«Следы невиданных зверей» — рассказ о том, как легенды и слухи о сказочных и невероятных животных иногда оборачивались реальными открытиями: какие-то удивительные создания потом были обнаружены, какие-то — нет. С детства у меня в голове были цитаты Акимушкина — книжка была чудесно написана, пусть и по тем моим невзыскательным меркам. От этого чтения еще больше хотелось в джунгли. Когда мы с Розенбаумом наконец поехали на дикую Амазонку, я все время сверял куски из Акимушкина с тем, что мы видели вокруг. Было ясно, что автор немножко перегибал. Сам-то он, скорее всего, там не был, но приводил цитаты иностранных путешественников: «Вы не можете раскрыть свою записную книжку без того, чтобы на нее тут же не села дюжина гигантских пестрых бабочек» . В общем, отличная, разжигающая любопытство книжка.
Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»
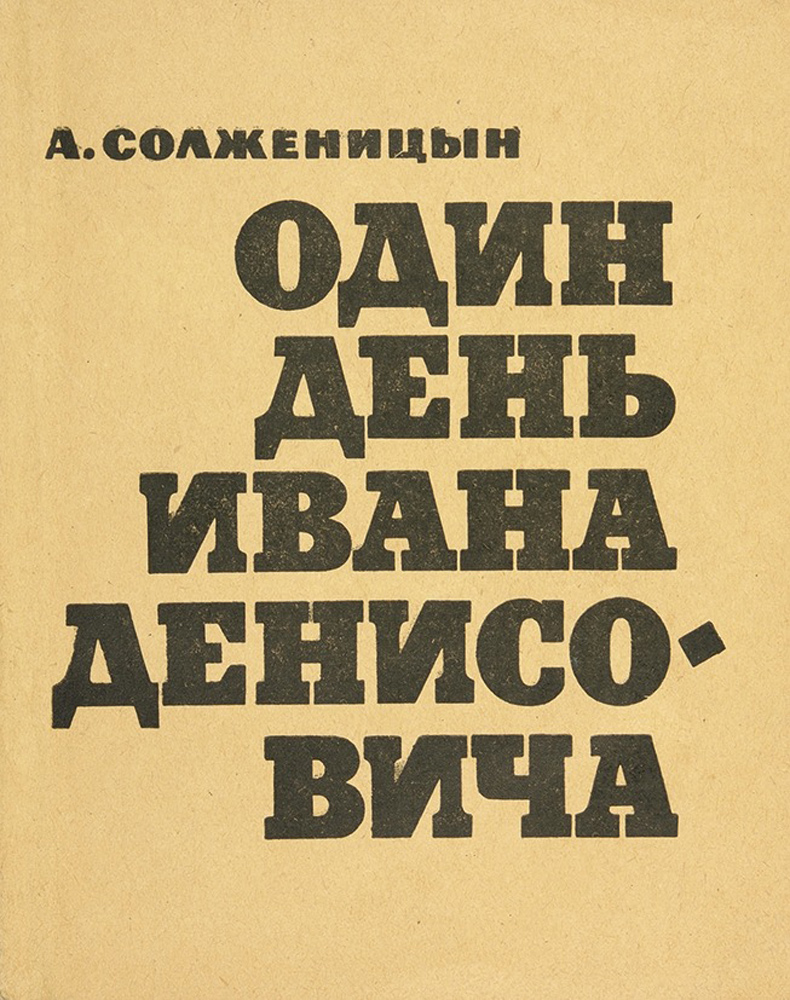
© Издательство «Советский писатель»
Значение, важность самой книги нечего комментировать, но я еще раз хочу выступить в защиту языка. Очень многие считают «Архипелаг ГУЛАГ» статистическим документом, чуть ли не бухгалтерским отчетом об исследованных событиях, об ужасах сталинизма. А я настаиваю на том, что эта книга великолепно написана: очень хорошим, безошибочно выбранным, скупым, сознательно жестким языком. Это прекрасный язык большого русского писателя. Кто-то назовет его словом «кондовый», но мне кажется, что «кондовость» языка применительно к «Архипелагу» подобрана просто идеально. Может быть, автор делал это интуитивно, может быть, это не случайно. Но скажу еще раз: язык «Ахипелага ГУЛАГа» совершенно органичен теме, описываемым событиям, ожидаемой реакции читателя. Ну, представьте, если бы об этом писал Тургенев? Нет, эта часть нашей истории могла быть рассказана только и именно так.
Братья Стругацкие. «Трудно быть богом»

© Азербайджанское государственное издательство
Многие любимые мною вещи Стругацких, к сожалению, со временем устарели. Радость от их перечитывания сегодня носит совсем другой характер: удовольствие не в книге, а в том, что мы вспоминаем себя в юности, тех молодых, которые читали это впервые. А вот «Трудно быть богом» не устаревает. Я бы даже сказал, наоборот, к моему огорчению, становится с каждым годом все современнее. И сегодня как никогда, перечитывая эту книгу, ты понимаешь, что человеческая история ходит кругами. Ходит значительно медленнее, чем хотелось бы, и очень часто мы вынуждены при этом просто жить и созерцать происходящее, ощущая свое бессилие. Да, «Трудно быть богом» — книга не только о бессилии, но и о нем тоже. Ведь в чем трагедия дона Руматы? В том, что он не имеет права вмешиваться. Вот он вмешался, и что? Спас планету? Конечно, нет. Завтра там будет то же самое. Но так уж обстоят дела, что благородных порывов никто не отменял, и в этой несложной идее отдельная большая ценность моей любимой книжки.
Виктор Пелевин. «S.N.U.F.F.»
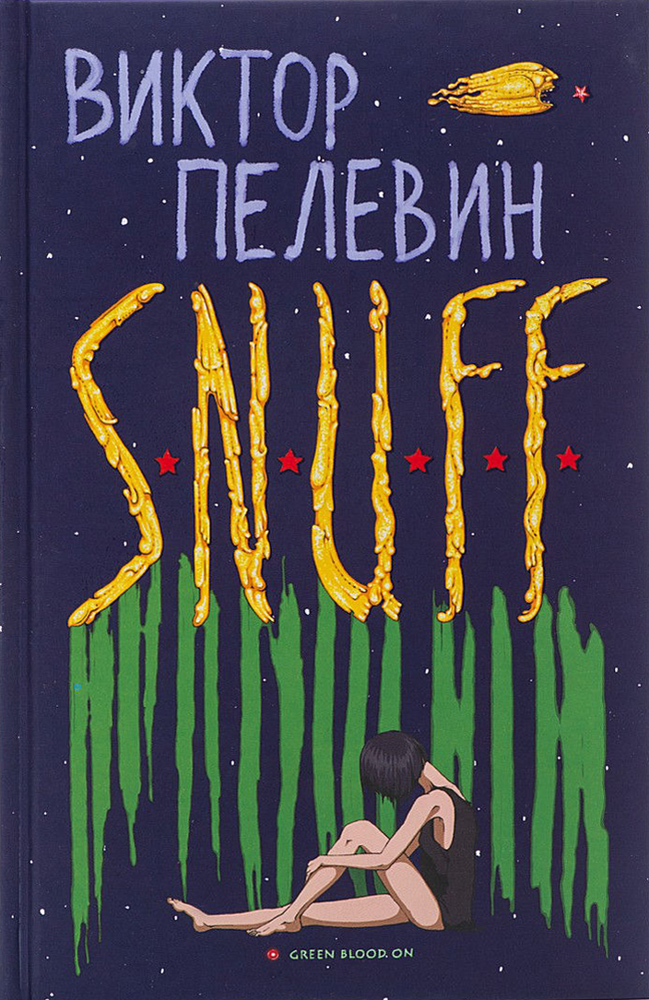
© Издательство «Эксмо»
Пелевина я полюбил начиная с «Принца Госплана». Всегда внимательно отслеживал и ждал с нетерпением каждой следующей книги. Я очень к нему строг и не могу сказать, что все у него одинаково прекрасно, но покажите мне большого писателя, у которого все книги одинаково хороши. Пелевин — настоящий мастер языка. А «S.N.U.F.F.», помимо захватывающего сюжета, отличается еще и наличием лирической линии. Это книга о неразделенной любви. Не знаю, насколько это совпало с личной трагедией автора, но есть ощущение, что он пишет про себя. У тебя есть кукла, которая по всем параметрам лучше любой женщины, ты сам ее сделал такой, какой представлял себе идеал, — и вдруг она тебя бросает! Фантастическая идея.
Говоря про эту книгу, нельзя, конечно, не сказать об украинской теме. Невероятно, как часто автор оказывался точен, пророчески точен — особенно в коротких прогнозах, сиюминутных, во многом построенных буквально на сегодняшних новостях. Но для меня это вторично. Мне важно, что, когда он включает лирического героя, выясняется, что Пелевин — большой писатель.