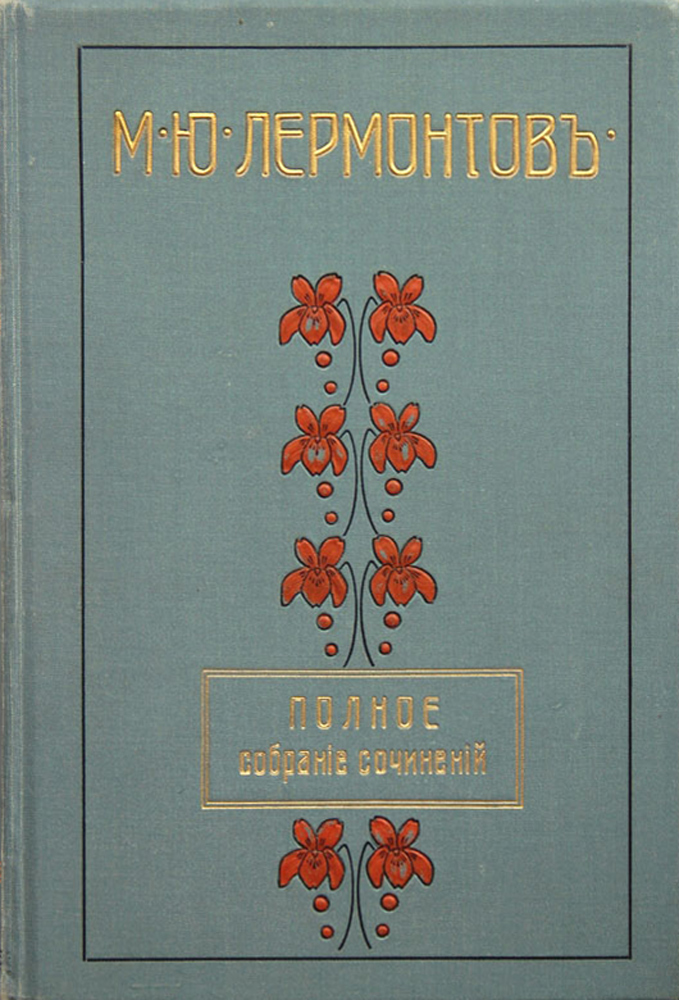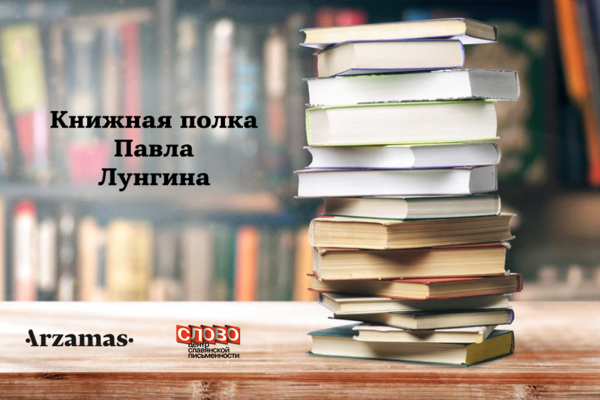Скоро Arzamas и Центр «Слово» на ВДНХ откроют библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. Герой нового выпуска рубрики — художник Гриша Брускин
В перечень, составленный для «Книжной полки», я поместил произведения, оказавшие на меня влияние в тот или иной момент жизни. Книги, которые вспомнились именно сейчас и о которых мне было интересно поговорить. Здесь не работает концепция «книга, которую взял бы с собой на необитаемый остров»: половину вещей, включенных в этот ряд, по разным причинам я не собираюсь более читать. С одной стороны, перечитывать книгу, даже любимую, далеко не всегда удовольствие. С другой — многие из них я помню, и этого достаточно. Зачем, например, тащить на остров сказку «Курочка Ряба»? Или стихи, которые знаешь наизусть? Но есть произведения, к которым возвращаешься регулярно и каждый раз с удивлением находишь в них не замеченные ранее сокровища.
«Курочка Ряба»

Аукционный дом «Империя»
В детстве мне не давал покоя темный смысл сказки «Курочка Ряба». Я мечтал: вдруг и мне однажды выпадет счастье — мама принесет из магазина коробку яиц, а там — одно золотое. Время шло. Мама золотого яйца «не несла». Я терял надежду. И вот однажды в солнечный весенний день домработница Нюрка повела меня в гости к подружкам. Подружки жили в «московском дворике». Деревянный дом, сад за забором. За домом церковь. Заброшенный колодец. Точильщик — «ножи точу». Старьевщик — «старье берем». Лошадь, запряженная подводой «капуста-огурцы». Между оконных рам вата, посыпанная блестками. Икона в окладе, бумажные цветы. Алые губки, крепдешиновые платья, шестимесячные завивки. Глянцевый поцелуй в подкове, подкрашенный анилиновыми красками. То есть все то, что у нас дома называлось мещанством. Но я тогда — мальчик-чубчик-чубчик кучерявый — короткие-штанишки-глазки-забыл-помыть — еще этого не знал.
На прощанье подружки подарили золотое яичко. Я был в восторге. Оказавшись дома, сразу же уселся за стол. И в нетерпении, как неразумные дед да баба, вознамерился «бить» пасхальное яйцо в надежде на счастье. Мама, заметив, что я делаю, села на стул напротив меня. Внимательно взглянула. И с какой-то особенной интонацией произнесла: «Гриша, смотри не отравись!» Аппетит тотчас пропал.
Итак, золотое яичко, снесенное волшебной пестрой птицей Курочкой Рябой в одноименной русской сказке, создано из философского золота. Внутри пребывает истина: философский камень — anima mundi. Anima mundi недоступна деду с бабой (били-били — не разбили), так как истину может обрести лишь избранный — тот, кто осуществил Великое делание, умер и обрел бессмертие.
Мелькающее, ускользающее время-мышь отнимает у деда с бабой золотое яичко: мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Курочка Ряба утешает стариков тем, что снесет им яичко не золотое, а простое, тем самым открывая тайну, что истину можно увидеть и найти повсюду, в том числе и в обыкновенном яичке.
Мамы давно нет. Да и моя жизнь падает, как зарница. Пасхального яйца я так ни разу не попробовал. Открывая коробку из продуктового магазина, уже не чаю найти «одно золотое». Но до сих пор время от времени издалека меня тревожит эхо маминого голоса: «Гриша, смотри не отравись».
Александр Дюма. «Граф Монте-Кристо»
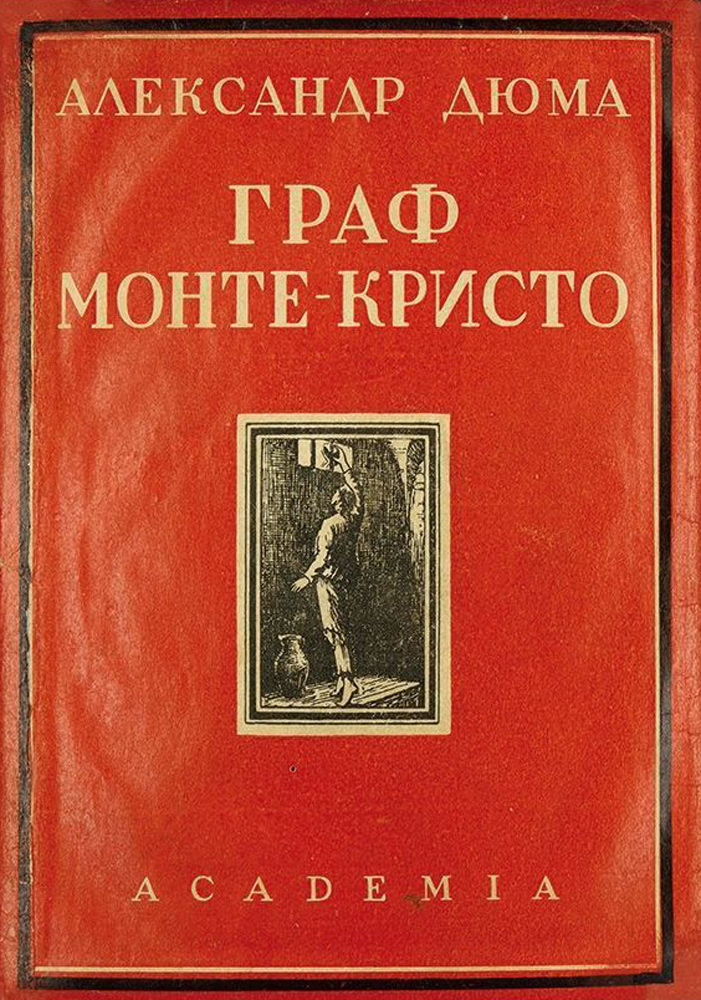
Издательство Academia
В детстве я был хулиганистым парнем. Вечно дрался с моим закадычным другом — сестрой Лерой. Когда нужно было нас успокоить, старшая сестра Зоя, бывало, говорила: «Пойдете спать — почитаю „Графа Монте-Кристо“». Наспех почистив зубы, мы мчались в постель. Зоя угощала нас конфетами «Мишка косолапый» и читала вслух волшебную книгу. Как лакомство. В награду. Я слушал. Фантазировал. Засыпал. Добавлял во сне к приключениям, которые только что услышал, новые. Книга звала в большой мир. Как почтовые марки манят в дальние края. Становилось абсолютно ясно, что нужно быть благородным, верным в любви, иметь достоинство, ненавидеть предательство, презирать измену. Мне, ребенку, открывалось, что существует праведная месть, что негодяй должен получить по заслугам.
Зло в книге — отвратительное, подлое — бывало отомщено. Я, конечно же, торжествовал. Мог бы и сегодня расписаться во всех своих детских чувствах. Если бы нынче моя старенькая сестра Зоя взялась вдруг почитать мне перед сном «Графа Монте-Кристо», я бы не отказался. Кстати, надо ее попросить.
Библия

Аукционный дом «Совком»
Я начал читать Библию в 14 лет и продолжаю до сих пор. Поставил увесистый том на предлагаемую книжную полку не столько потому, что это Священное Писание. И не столько потому, что среди книг Книги есть безусловные литературные шедевры. Меня всегда удивляла и притягивала фундаментальная концепция этого поразительного фолианта. Идея, что Библия была написана Создателем до сотворения мира. И что в Книге содержатся все мыслимые знания и истины о мире прошлом, настоящем и будущем. Что эти знания закодированы, спрятаны. Скрыты от человека.
Книга представляет собой фундаментальный ребус и одновременно инструкцию, как надлежит проживать свою жизнь. Задача человека — разгадывать этот ребус. Как он это делает? Всю жизнь читает Книгу. Самым лучшим, праведным Книга открывает свои секреты. Обладая этими секретами, читающий может приблизиться к Богу и немного «стать как Бог».
Что создал Господь? Вселенную и человека. Отсюда произошли истории, описывающие в старых текстах праведников, которые создавали свои «вселенные» и своих человеков-големов. Но так как полное знание заповедано смертному (доступно только Богу), его творения ущербны. Например, Голем слишком мал или, наоборот, огромен. Не имеет души и слушается своего повелителя, знающего магическое сочетание букв. А Вселенная миниатюрна и помещается на столе. Художника называют вслед за Богом творцом. Художник — чуть-чуть Бог, своего рода праведник, прочитавший истину в Книге жизни и творящий свой собственный несовершенный мир.
Владимир Набоков. «Защита Лужина»
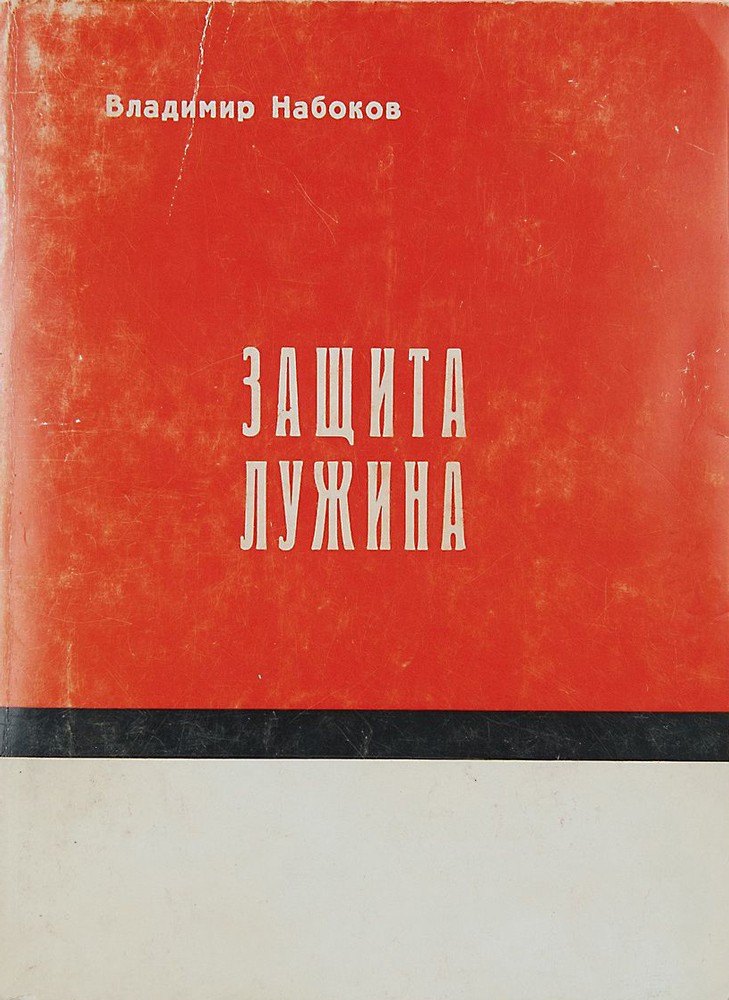
Фиктивное издательство Editions de la Seine
В студенческие годы главным поставщиком дефицитной и запрещенной литературы был Саша Васильев, сын одного из двух братьев Васильевых, режиссеров, создавших бессмертный образ Чапаева — героя Гражданской войны и популярных анекдотов. В отличие от своих коллег Саша читал все, что продавал, и был интересным собеседником. Он пропивал заработанные деньги и появлялся то в виде шикарного господина, то опустившимся бродягой. Давать читать за плату было одной из форм Сашиного бизнеса. Самыми дорогими были книги, изданные КГБ для внутреннего пользования, с грифом «рассылается по специальным спискам». Я скидывался с приятелями и брал у Васильева за пять рублей на ночь почитать Джойса или Набокова. Читали вслух по очереди. Так я впервые частично прослушал, частично прочитал мой любимый роман Набокова «Защита Лужина».
Александр Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»
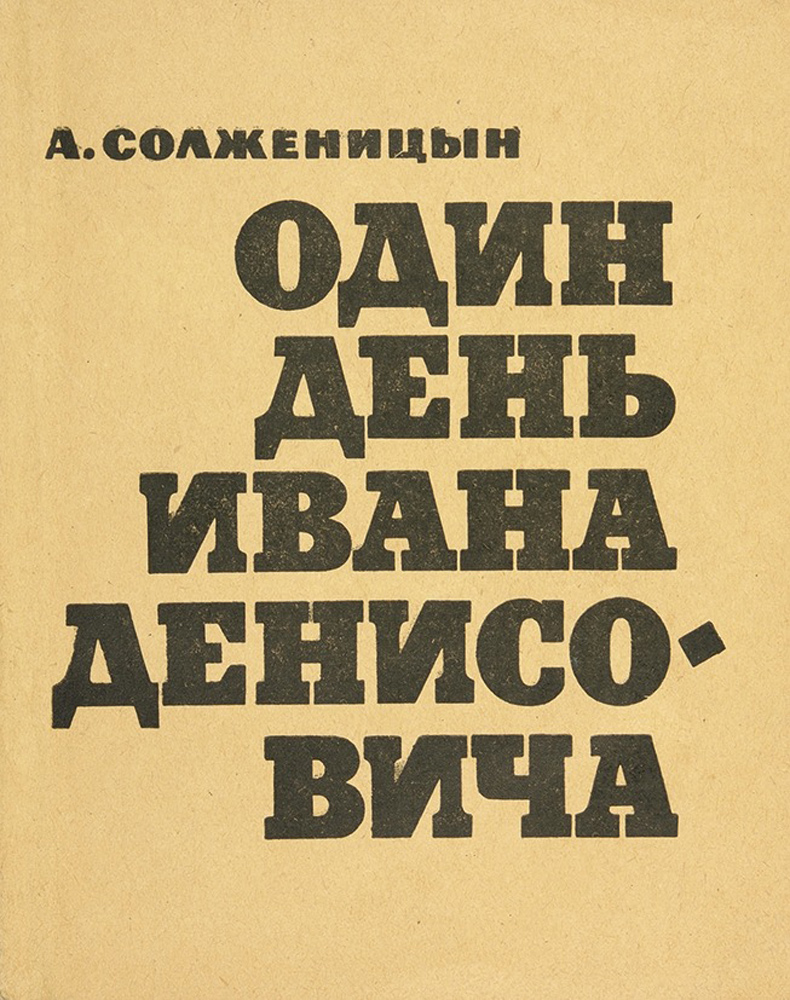
© Издательство «Советский писатель»
«Один день Ивана Денисовича» — не моя любимая книга. Я прочел рассказ, когда он впервые вышел в журнале «Новый мир». Второй раз — спустя много лет, и больше читать не хочу: ныне чтение было бы для меня мукой. Пыткой искусством.
Кстати, любопытная тема. Тут вспоминается фигура архитектора из модернистской школы Баухаус — Альфонсо Лауренчича. Он воевал в Испании против франкистов. На территории, занятой республиканцами, Альфонсо поручили спроектировать тюрьму. Надо было сделать так, чтобы человек, попавший в камеру, страдал.
Лауренчич прекрасно справился с задачей, использовав модернистское искусство как пыточный инструмент. В камерах архитектор спроектировал лежанки наклонными, чтобы узник постоянно сползал вниз, тщетно предпринимая усилия удержаться на койке. Пол выложил кирпичным лабиринтом так, что заключенный не мог ходить в произвольном направлении, а должен был все время поворачивать под прямым углом. На стенах нарисовал квадраты, решетки, треугольники — цитаты из картин Мондриана, Кандинского и Малевича. Лауренчич справедливо предполагал, что геометрические формы будут депрессивно воздействовать на психику человека. Более того, на тюремную перегородку в режиме нон-стоп проецировался фильм Луиса Бунюэля «Андалузский пес», где герой разрезает опасной бритвой девушкин глаз — почти цитата из Лотреамона , — а из дырочки в ладони выползает рой муравьев.
Перечитывать на необитаемом острове рассказ Солженицына было бы подобной пыткой. Тем не менее «Один день Ивана Денисовича», прочитанный в семнадцатилетнем возрасте, относится к книгам, которые меня сформировали, без которых я был бы другим человеком. Тогда, в 1962-м, конечно, я знал о существовании тюрем, о том, что есть лагеря, где пребывают несправедливо осужденные зэки. Что-то рассказывали родители, что-то читал в самиздате, но это все была теория. Когда же читал «Один день Ивана Денисовича», проживал его вместе с Щ-854. Правда и достоверность повествования произвели на меня огромное впечатление. И тот каторжный день остался навсегда со мной.
Мне абсолютно ясно — и сегодня тоже, — что я живу той комфортной жизнью, которой живу, а где-то перебивается на зоне тот самый Иван Денисович Шухов и тянет срок именно так, как описал Александр Исаевич Солженицын. Помните, как книга кончается: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три». «Десятка»эта никогда не кончается, а продолжается параллельно с моей жизнью.
Евгений Замятин. «Мы»
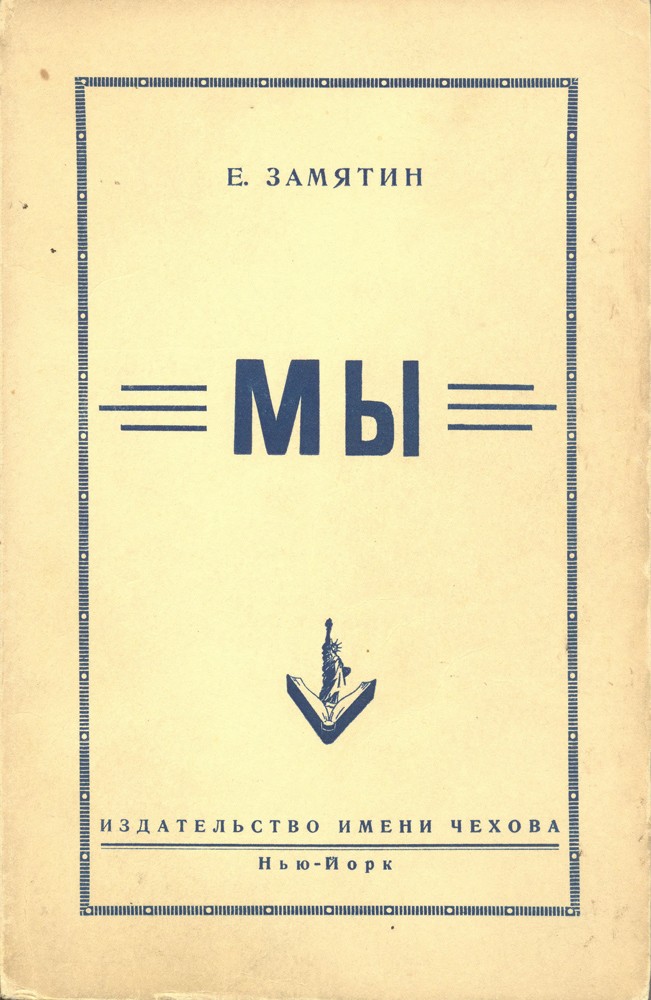
© Издательство имени Чехова
Прочел роман-утопию «Мы» в 60-е. Не помню, в самиздате или тамиздате. Какое впечатление произвела книга? Сильное! Глядел в страницы и узнавал свою страну. В Благодетеле — Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева. В Хранителях — агентов КГБ. А в ассирийских маршах нумеров… — советские первомайские демонстрации. Надо сказать, книга замечательно, увлекательно написана. И является прекрасным образцом модернистской литературы своего времени.
Оказал ли Замятин на меня влияние? Да. Я задумался над тем, какие механизмы воздействия на население использует власть, чтобы заставить людей одинаково мыслить. Сделать внушаемыми и послушными государству (или религиозной институции). Я стал размышлять о понятии «аура». И, в частности, уяснил, какое громадное воздействие оказывает на человека изображение. Это, безусловно, отразилось в моем искусстве.
Роман имеет универсальное значение. Как мы знаем, он решительно повлиял на знаменитый «1984» Джорджа Оруэлла и не утратил актуальности в наши дни.
Страны в процессе глобализации стремятся стать замятинским Единым Государством. То тут, то там воцаряется очередной замятинский Благодетель, мечтающий создать свой собственный замятинский «Интеграл» — сверхмощное оружие, адронный коллайдер, космический корабль. Нынешние замятинские Хранители уже добились совершенства в прослушивании и подсматривании за населением Земли. А современная генная инженерия стоит на пороге практического замятинского детоводства.
Шарль Бодлер. «Цветы зла»
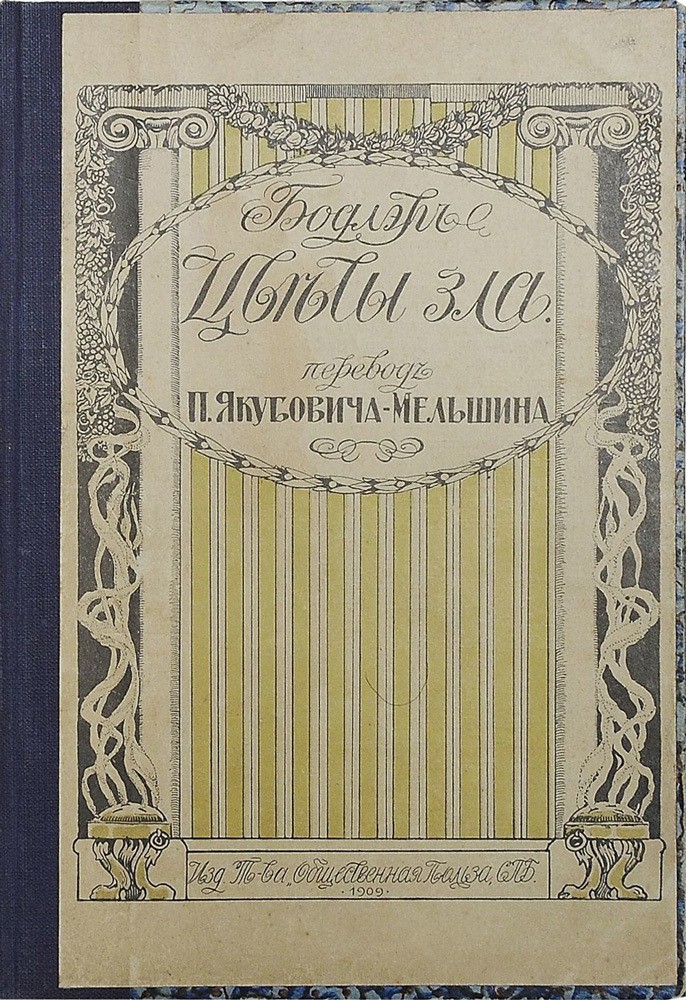
Аукционный дом «Империя»
Сначала детская влюбленность, затем юношеская болезнь и, наконец, недетская любовь — так я мог бы прокомментировать метаморфозы своего отношения к сборнику стихов Шарля Бодлера «Цветы зла». Бодлерианская тоска по идеалу находила отзвук в романтической душе юноши-художника. Разочарование и пресыщенность, скука и хандра были сродни его сердцу.
Юноша трепетал от встречи «безбрежности мечты с предельностью морей». Эстетизировал «безобразное» вместе с поэтом. Сравнивал русские переводы с французскими оригиналами. Откликался на призыв «Плыви в бездонных сказках Над тем, что мыслимо, над тем, что мерит метр». Позиция фланера-наблюдателя импонировала. Романтизация Смерти и Зла завораживала. «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!» — твердил парень. Тема современности интриговала, а неприятие норм советской ханжеской морали удивительным образом совпадало с критикой морали буржуазной. Правда, в СССР не было капитализма. Но я, юный философ, полагал, что это заблуждение. И, возможно, был прав.
Плюс шаманская интонация поэта-факира довершила дело, и Бодлер на долгие годы стал моим любимым автором. Конечно, ныне я отчетливее вижу все грани магического кристалла, именуемого «Цветами зла». Понимаю стратегию поэта. Ценю обновляющий искусство воздух, ворвавшийся в европейскую культуру с публикацией «Цветов». Могу назвать и сформулировать то, что в юные годы лишь чувствовал. Но чувства эти были искренними, и я навсегда остался верен Бодлеру.
Франц Кафка. «Превращение»
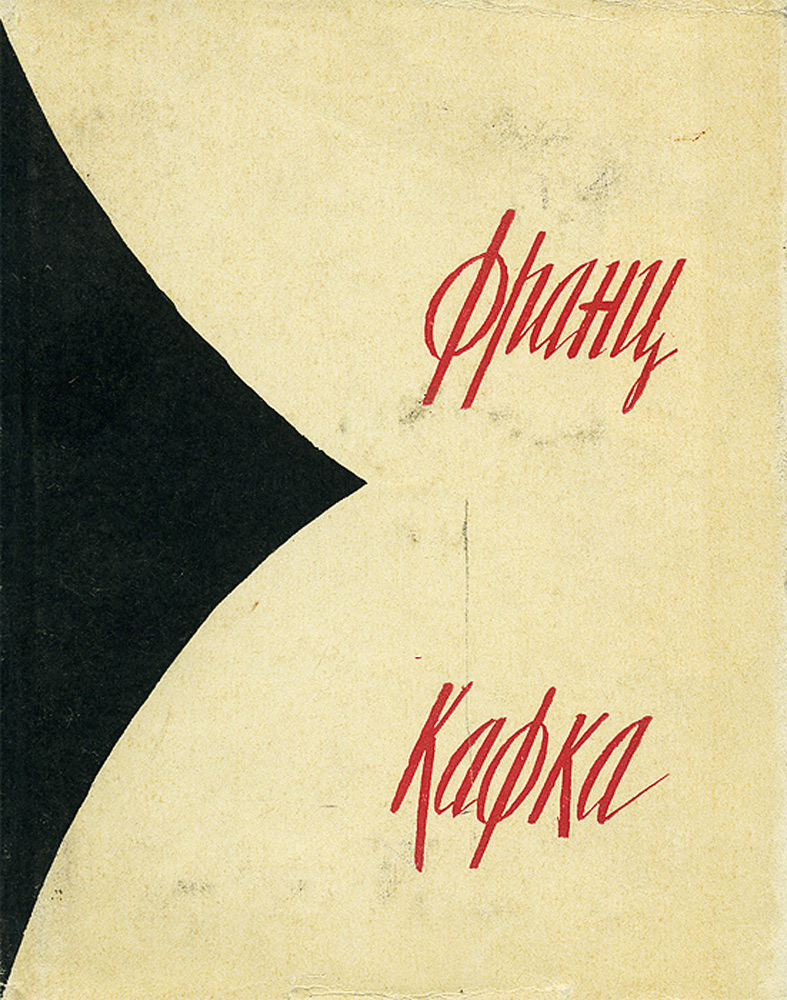
© Издательство «Прогресс»
На днях заглянул в рассказ «Превращение». Прочел несколько строк и без сожаления захлопнул томик. Захлопнул не только потому, что мгновенно исчезло желание заново влезать в Замзу и вновь рассматривать свои «многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки» — хотя и это тоже. Я побоялся испортить, точнее изменить, то первое ошеломляющее впечатление, которое рассказ произвел на меня в юности и которое поныне занимает бесценное место в моей памяти. Художник Вагрич Бахчанян воскликнул: «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Однажды сам Кафка это и сделал: родился и, став писателем, приподнял покрывало-невидимку с одной из сторон дотоле скрытой жизни, тем самым подарив нам новую оптику. Надев новенькие очки, прозревшие мы взираем теперь на ставший четким мир и восклицаем: «Как у Кафки!» Вот это и значит — великий писатель!
Райнер Мария Рильке. «За книгой» и «Созерцание»

© Издательство «Художественная литература»
«Я зачитался, я читал давно…» — мое любимое с юных лет стихотворение Райнера Марии Рильке «За книгой», где автор описывает преображение мира, происходящее в процессе или, вернее, в результате чтения Книги , и не менее любимое «Созерцание», в котором поэт интерпретирует библейский сюжет борьбы Иакова с Ангелом. Рильке полагает, что каждый должен стремиться заслужить Встречу. И, лишь вступив в борьбу с Противником, которого априори невозможно победить, человек в состоянии постичь «необычайность и небывалость». И «расти в ответ». Борьба описывается как путь к постоянному обновлению, совершенствованию и постижению истины. Единственный верный образ жизни. Как поединок, где поражение оборачивается победой.
Я всегда сравниваю «Созерцание» с другими прочтениями библейского сюжета. Самая удивительная и необычная версия изображена на фреске XI века в Архангельском приделе Софийского собора в Киеве. Невиданной иконографии Ангел, обликом подобный Богоматери, с крыльями вразлет устремился (бредет) вперед. Патриарх, размером если не с младенца, то с малого ребенка, подпрыгнул вверх, даже вспрыгнул и, ухватившись за… материнское? отеческое? Родительское (!) плечо Пришельца, прильнул по-детски к нему. Ангел вроде бы и не замечает Иакова. Но знает о его присутствии. И один, и другой смотрят мимо друг друга — внутрь себя. Выражение лиц — медитативное.
Сцена подобна ритуальному действию. Происходящий момент (свершение) создает матрицу — мифическую форму, которую предстоит заполнить собственной будущей действительностью потомкам патриарха. Фреска исполнена предельного внутреннего напряжения, экспрессии, статической динамики. И излучает мощную ауру.
Андрей Белый. «Петербург»
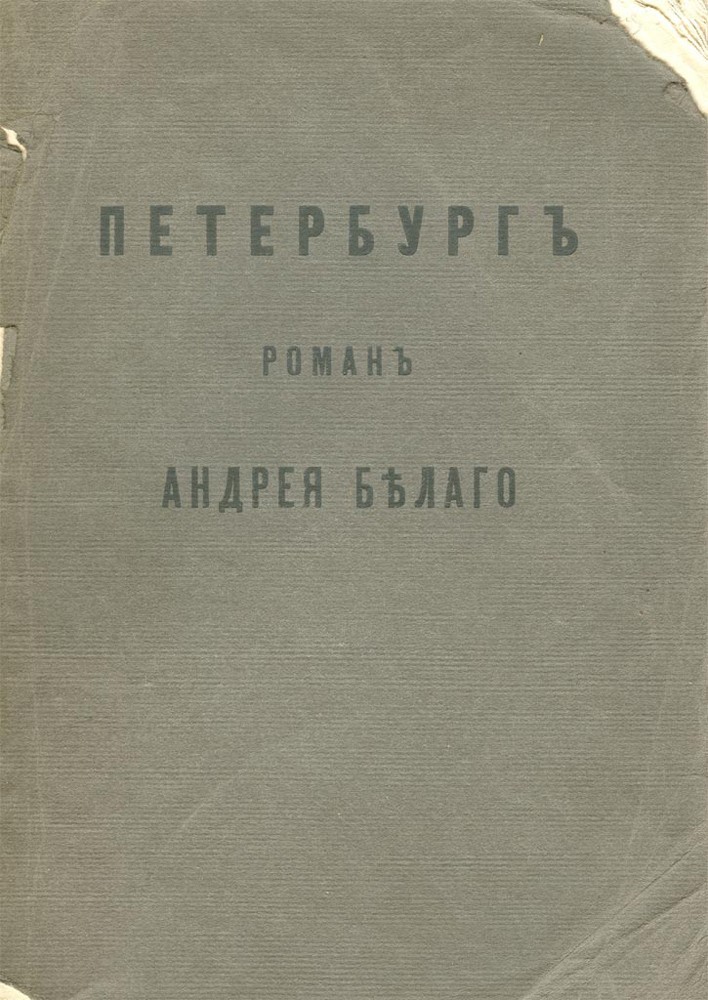
Аукционный дом «Империя»
«Петербург» из тех книг, которые вспоминаешь — и думаешь: «Надо бы перечитать!» Не для того, чтобы вспомнить содержание. Сюжет запоминается с первого раза: детективная история вполне в духе Федора Михайловича Достоевского. Да еще с бесами-революционерами-бомбистами-террористами. Перечитать для того, чтобы получить удовольствие от самого процесса чтения. Чтобы холить буквы, слоги, строки. И лелеять воздух, веющий между строк. Роман Белого прежде всего поэма, притворившаяся прозой.
Николай Гоголь. «Петербургские повести», «Ревизор», «Мертвые души» и «Записки сумасшедшего»

AntiqueBooks.ru
Я не люблю произведение Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба», хотя раза четыре в жизни внимательно прочитал. Меня каждый раз не покидало чувство, что размашистая эпическая повесть с национальным колоритом написана с целью получить государственную похвалу. Что это заказное произведение, где фигурируют шаблонные «водевильные евреи и лихие казаки» (Набоков). Кстати, отец, когда я ему досаждал в детстве, бывало, любил сказануть: «Я тебя породил, я тебя и убью!» От этой фразочки меня трясло.
Гоголь «Ревизора», «Мертвых душ», «Петербургских повестей», «Записок сумасшедшего» — мой любимый писатель. Николай Васильевич выбрал абсурд как способ описания мира и в своих блистательных фантазмах прозрел искусство будущего. Писатель прочно вошел в мою жизнь. Когда на меня садится комар, мне хочется казнить его «на ногте какого-то зверя». Если человек подвыпил, то, понятно, «в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою». В гостях мне порой хочется «доехать осетра». В магазине кажется, что продавец вдруг возьмет и предложит: «Вы возьмите жены, это самая модная материя!… из нее все теперь шьют себе сюртуки». В календаре так и тянет переправить «февраль» на «фебруарий», а в дневнике пометить страницу: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое».
В текстах Гоголя посеяны зерна, дающие время от времени всходы в той или иной современности. Недавно, перечитывая «Мертвые души», наткнулся на описание сада Плюшкина: «Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно все было окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка…» Понятно, зияющая пасть — вход в ад. Но в данном случае я узнал картины моего умершего друга, замечательного художника Олега Васильева «Дорога к озеру» и «Проход к озеру», где изображен солнечный лес, а посередине черная дыра — темная тропа. Гибельный путь. Ведущий в никуда?
Любимое же занятие Манилова смахивает на модернистский проект. Вытряхивание из трубки кучек пепла и раскладывание их на подоконнике в определенном порядке, пишет Гоголь, единственное доступное ему художество. Набоков называет это действо самым выразительным символом устремлений Манилова. А мы обнаруживаем тут Манилова — современного художника, а в кучках пепла — искусство второй половины XX века. Точнее, минималистическую инсталляцию в духе американских мэтров — Дональда Джадда или Сола Левитта.
Соломон Волков. «Диалоги с Иосифом Бродским»

© Издательство «Независимая газета»
Как-то раз в Нью-Йорке в гостях я встретил томную даму. Речь зашла о книге «Диалоги с Иосифом Бродским». Дама воскликнула: «Я что-то не припомню, чтобы Иосиф мне это рассказывал!» Самым ярким фактом биографии томной дамы была ночь, проведенная с пьяным гением. Нетрудно догадаться, что в те самые минуты поэт и «муза» и впрямь вели иного рода диалог. Воистину одному скажешь одно, другому — другое.
Книга Волкова — прекрасный образчик литературного жанра «Разговоров». Умный нарратив, легкое дыхание. Соломон, подобно секретарю Гете, в течение нескольких лет записывал и режиссировал беседы с поэтом. Когда мне хочется поговорить с Бродским, я в который раз беру с полки томик «Диалогов». И с удовольствием погружаюсь в книгу. Думаю, переверну страницу-другую… и не замечаю, как добираюсь до конца. Неслучайно именно Волкову Шостакович и Бродский поведали то, чего никогда не рассказали бы другим. Соломон за меня (за нас) побеседовал с большим поэтом. И я (мы) ему за это благодарны. Так снимем шляпу перед мудрым собеседником.
Френсис Йейтс. «Искусство памяти»

© Издательство «Университетская книга»
С удовольствием перечитываю книгу британской исследовательницы культуры Френсис Йейтс «Искусство памяти», которая в какой-то момент повлияла на мою работу. Включая книгу в список, я обращаюсь к пытливому читателю в надежде, что тот придет в библиотеку с желанием приобрести новое знание. Знание, без которого невозможно в полной мере оценить культуру Возрождения. Книга Йейтс, вероятно, удивит его и вызовет желание попытаться связать древние идеи с нашим временем, чтобы лучше осмыслить и понять сегодняшний день.
Архаика мерцает в современности. Во все времена «новое» припоминало «старое». Греки вспоминали египтян, римляне — греков. Люди эпохи Ренессанса — вышеперечисленных. Истоками самых дерзких модернистских порывов являлись традиции и образы древних культур, будь то африканские культы или же египетская премудрость.
В XV веке искусство памяти приобрело мистический характер, соединившись с языческими и гностическими идеями. Люди верили, что христианство можно улучшить, соединив его с древнейшим знанием. Великий герцог Тосканы, известный меценат Козимо Медичи посылал в разные страны посланников, которые искали для него древние манускрипты. Знаменитый флорентийский неоплатоник Марсилио Фичино переводил их для своего патрона. Мудрецы Ренессанса полагали, что чем древнее информация, тем она подлиннее. Тем свежее память о Слове, поведанном однажды Богом непосредственно человеку. Из уст в уста. Почувствовав, что скоро умрет, Медичи попросил Фичино отложить работу над переводами книг Платона и заняться трактатами первого египетского жреца Гермеса Трисмегиста в надежде успеть еще при жизни постичь Истину.
Антон Чехов. Полное собрание сочинений
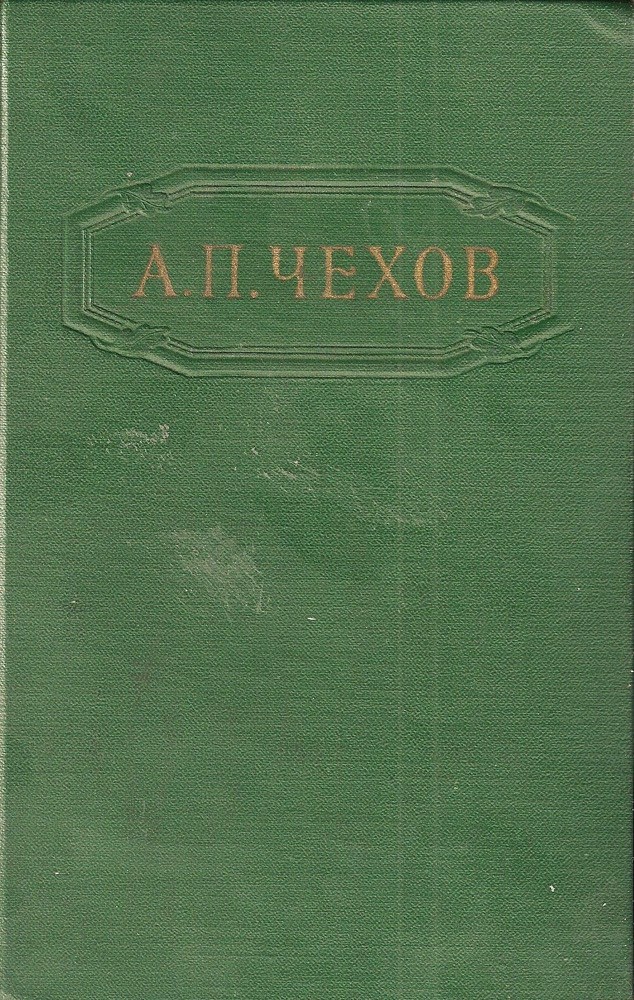
© Государственное Издательство Художественной Литературы
Я думаю, что Чехов все свои книги написал лично для меня. Для того, чтобы я попытался стать лучше в этой жизни. Вот полное собрание произведений Антона Павловича, пожалуй, и можно было бы прихватить с собой на необитаемый остров.
Михаил Лермонтов. «Сон»
Стихотворение Лермонтова «Сон», которое Соловьев назвал «сновидением в кубе», а Набоков — «тройным сном», хочется рассмотреть в сравнении с картиной Петрова-Водкина «После боя», которую можно обозначить «сновидением в квадрате» или «двойным сном». Главный персонаж художника убит в грезе. В сновидении. Он, как и лирический герой Лермонтова, не умер, а «заснул мертвым сном». Сном во сне. И снится убитому «вечерний пир» — трапеза: суп в котелке, кисет с табаком. И «в разговор веселый не вступающие» задумчивые сомнамбулы — бойцы. И грезится им, в свою очередь, «знакомый труп» убитого командира — участника трапезы. «В его груди дымясь чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей». Магическая спираль — «сон во сне» — замыкается в картине «После боя», как в стихотворении Лермонтова. И возвращает читателя-зрителя к начальной строфе — к сну наяву трех бойцов.
Томас Манн. «Иосиф и его братья»
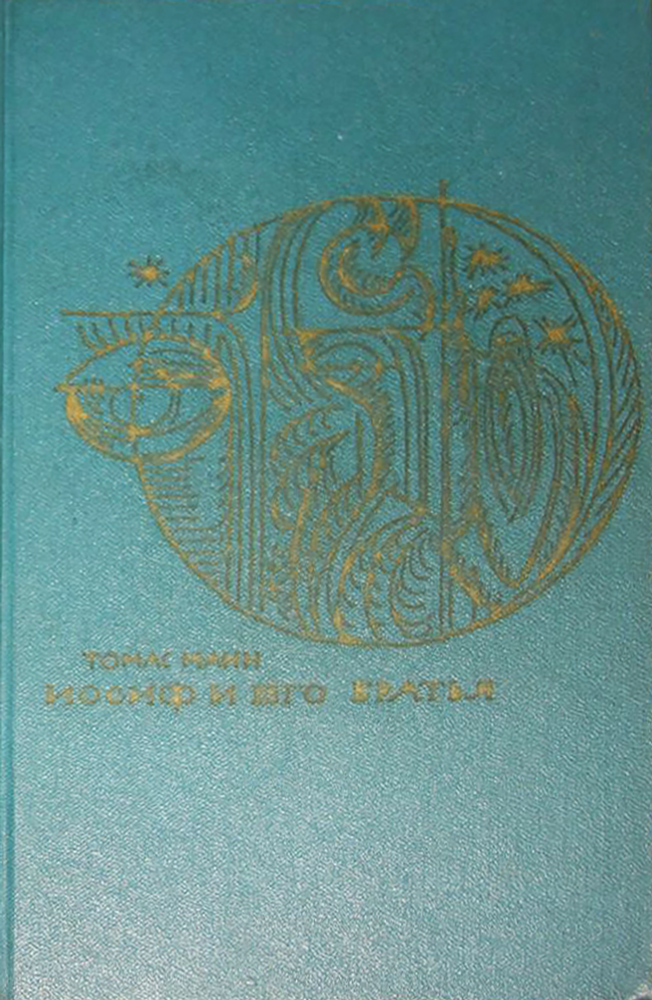
© Издательство «Художественная литература»
Тут, пожалуй, ограничимся воображаемым диалогом.
Манн: Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным? Ведь чем глубже копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно непостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его… У тайны этой нет времени; но форма вневременности — это Вот Сейчас и Вот Здесь.
Я: Согласен. Потому что переживание жизни сливается с памятью в Искусство Памяти. Линейна ли память? Да нет, пожалуй. Мы часто переставляем события, путаем сны с действительностью, литературу — с жизнью, принимаем желаемое за бывшее. А бывшее забываем. Прошлое не умерло. Лишь дремлет. Разбуженное воспоминаниями, оно, как ветер занавеску, шевелит настоящее и еще не случившееся будущее. И врата по имени «Мгновение» скрипят…
Манн: Ибо мы идем по стопам предшественников и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифических форм…