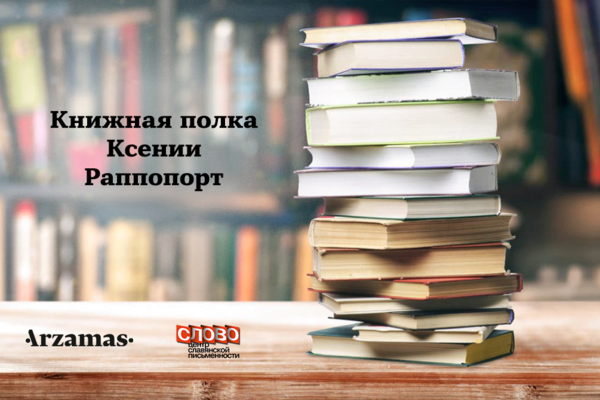Скоро Arzamas и Центр «Слово» на ВДНХ откроют библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. В новом выпуске рубрики — поэт Анатолий Найман
Поскольку я неожиданно прожил гораздо больше, чем собирался, меня время от времени что-то изнутри подталкивает на оглядку. В дневнике Ахматовой есть фраза «теперь, когда и старость позади». Я когда-то думал, что это больше образно сказано, чем фактически, а сейчас понимаю, что все в самом деле так. Старость — период вполне структурированный и имеющий границы, а вот за ним начинаются действительно странные вещи, более или менее бесформенные, но для продолжающего жить — привлекательные. И об одной из них я как раз в связи с книгами и хочу сказать.
Дело в том, что есть два вида проживания жизни. Один — сопровождаемый приобретением непосредственного опыта: приготовить уроки, выздороветь, сделать еще что-то такое необходимое или бытовое. Скажем, спустило колесо у машины. Вы ведь не начинаете его сразу менять, правда? Вы сперва легонько постучите по нему ногой, потом походите вокруг, покачаете головой в надежде, что кто-то проезжающий мимо остановится: «Что, колесо спустило?» Вы сталкиваетесь с людьми — хорошими, плохими, злыми, добрыми. Встречаетесь с идиотами и думаете, что они идиоты, а они на самом деле умные. Или, наоборот, думаете: «О, какой умный человек», а это идиот. Ну и так далее. В общем, это все — непосредственный опыт. Это и есть первый способ проживания жизни.
А второй — вы читаете книги. По крайней мере, в мое время это было обязательно. Ты читал не только рекомендованную «Как закалялась сталь», но, и, например, «Как устроена женщина» — за закрытой дверью школьного сортира мужской школы (я ходил в школу еще при раздельном обучении). Ты начинаешь читать книги и вдруг замечаешь, что они производят над тобой какое-то действие (причем не только во время чтения), в результате которого тебя сегодняшнего, настоящего нет вообще. Помню, моя дочь в юном возрасте читала что-то и вдруг швырнула книгу в угол. Потом пошла, подняла ее и продолжила читать. Не помню, что была за книга и что за момент, — может быть, Анна Каренина бросилась под поезд. Ты вдруг видишь, что какой-то кусочек тебя, на который ты никогда не обращал внимания, вдруг становится более или менее сформирован или формируется по-новому. Более того, ты замечаешь, что опыт жизни, опыт понимания людей, приходящий из книги, ничуть не меньший, чем опыт топтания вокруг спущенного колеса.
Мы вообще мало знаем о том, какой опыт нам нужен и для чего. У меня был приятель, он написал рассказ. В издательстве ему сказали, что у него нет жизненного опыта, и он пошел на месяц работать в такси — узнать жизнь. Таксистом он проработал около 30 лет, стал начальником колонны и жил совершенно нормально. Однажды ночью в Ленинграде я вызвал такси, и ко мне приехал именно он. Я его в темноте не узнал, сажусь и говорю: «Проспект Карла Маркса», а он продолжает: «Дом 70, квартира 70». Это к вопросу о том, какой способ познания жизни кто выбирает. Один способ ничуть не меньше другого, тут даже и соперничества нет.
Данте Алигьери. «Божественная комедия»

Обложка первого тома поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия». Москва, 1974 год
Перевод Михаила Лозинского© Издательство «Художественная литература» Не могу про себя сказать, что я книжный человек, и не могу сказать, что я тот, кто, что называется, «знает жизнь», или «знает книги», или «знает жизнь по книгам». Поэтому в списке моих книг будут только те, которые воздействовали на меня непосредственно и сильно. Одной из центральных в этом смысле книг для меня всегда была «Комедия» Данте. Это потом к названию прибавили «Божественная», которое все с удовольствием приняли. Я был увлечен ею начиная с совсем молодых лет, четверть текста прочел по-итальянски. По-русски она существует в прекрасном переводе — не в том смысле, что «вот какой переводчик замечательный», а в том смысле, насколько он незаметен. Это Лозинский. Читая Лозинского, ты читаешь Данте. Можно ткнуть пальцем в любое место, открыть его по-итальянски — и как будто рядом с книгой окажется словарь: это будет именно «Божественная комедия» Данте. Данте, помимо прекрасного, эстетического, невероятного, не сравнимого ни с чем жеста создания этих 14 000 строк, создал мир, в котором ты можешь спокойно разобраться. Там есть карты, есть атласы, там очень четко все описано, и мир, в котором ты живешь, приведен в некоторый божественный порядок. То есть посередине странствия земного он очутился в каком-то там лесу, он попадает под землю, где его ждет Вергилий, дальше они ходят вместе и встречают людей, которые жили, отжили и попали куда-то. Так говорит католик Данте, человек глубоко верующий, хотя и несколько свободомыслящий, с точки зрения Церкви. Каждый из нас думает о том, как устроен мир, или маленький, тесный кружок, или его семья. Нам кажется, что это достаточная модель для понимания всего мира. А Данте сказал: «Мир устроен так-то». Есть Бог, есть ад — то есть мир, который мы знаем, сотворен Данте. В годы молодые, даже в зрелые годы, когда еще что-то можно изменить, ты все-таки немножко сомневаешься. Ты думаешь: «А вдруг я ляпну что-нибудь такое, чего на свете и нет, или оно есть, но совершенно наоборот?» А Данте сказал: «Думай как думаешь. Оно есть, пусть в каком-то ином виде, но точно есть». «Божественная комедия» ведь не то что бы книга воспитания. Данте дал картину мира, доступную словам и логике, а главное — дал ее через эстетику. Картину гармоничную, страшную местами, но и прекрасную. Вот это, например: «В тот день мы больше не читали» — не знаю ничего милее этой строчки. У меня небольшая библиотека, и даже она мне стала велика. Но я в любой момент могу не глядя вынуть «Божественную комедию» — итальянская и русская стоят рядом — и просто читать. Есть место в воспоминаниях Ахматовой: «…Я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче): <…> …Осип заплакал». Осип — это Мандельштам. Представьте картину: Ахматова и Мандельштам — и он плачет. Она спросила, в чем дело, и он сказал: «Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом». Вся эта книга из таких вот мест и состоит.
АУДИО!
Курс про Данте и «Божественную комедию». Лекции поэта и переводчика Ольги Седаковой
Гомер. «Илиада» и «Одиссея»
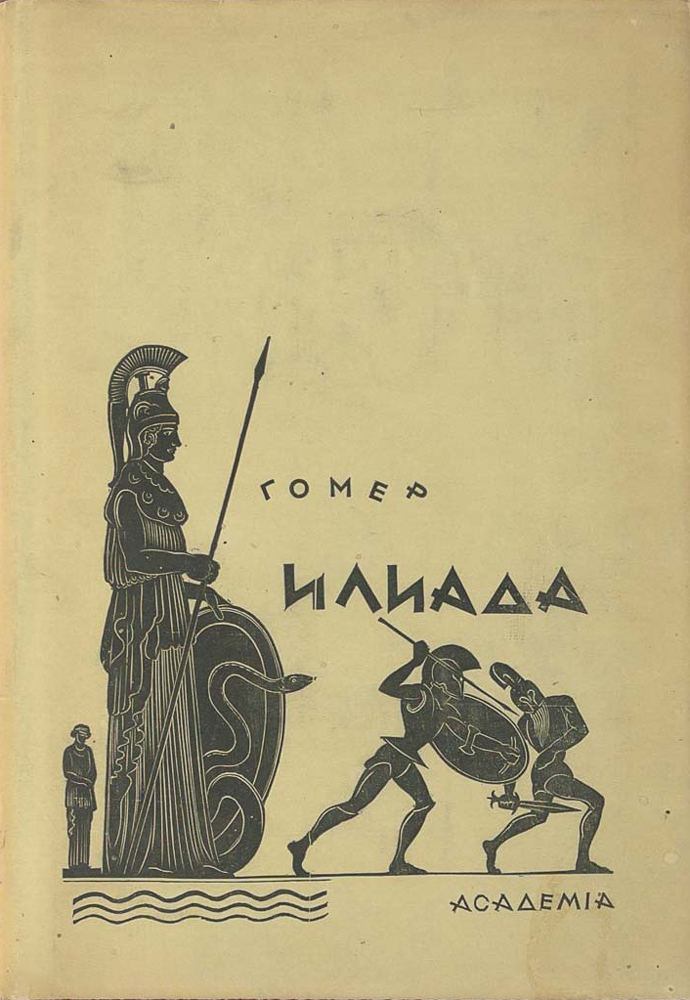
Обложка поэмы Гомера «Илиада». Москва — Ленинград, 1935 год p
Перевод Николая Гнедича
Издательство Academia
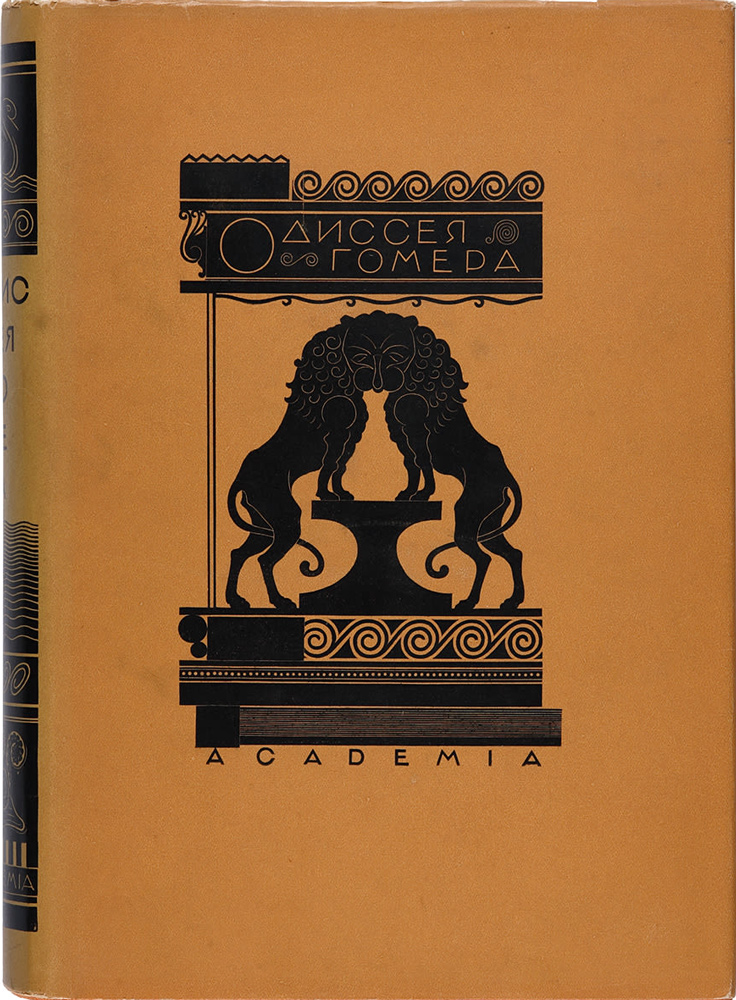
Обложка поэмы Гомера «Одиссея». Москва — Ленинград, 1935 год p
Перевод Василия Жуковского
Издательство Academia На меня огромное впечатление и на всю жизнь произвели две книги одного и того же автора: они называются «Илиада» и «Одиссея». Честно говоря, «Одиссея» мне гораздо больше нравится, потому что я вообще ужасно люблю вот это убегание от своей жизни. Ну и Жуковский , конечно, сладкозвучнее. Я не читаю по-гречески, мне это сладкозвучие важно. Но и Гнедич замечательный. Некоторые важнейшие вещи я усвоил из «Илиады». Если очень упрощать, она о том, как вообще создается любая цивилизация, когда люди живут уже не в пещерах, а какими-то поселениями. Чем они занимаются, какое участие в их жизни принимают боги, как Ахиллесу приходится убивать Гектора, как плачет Приам… Такое много где описано, но только здесь это сказано слогом, отменить который еще невозможнее, чем реальную биографию упомянутых людей. «Одиссея» — совершенно замечательная вещь, говорящая, что усидеть на своем стуле ни в коем случае не получится. Она про человека стремящегося, больше того, там описана совершенно великая вещь. Помните, Одиссей попал в пещеру к Полифему и на вопрос, как его имя, сказал: «Меня зовут Никто»? Когда он потом выжег циклопу глаз, чтобы сбежать из плена, на рев Полифема прибежали другие циклопы: «Кто это был?» А Полифем говорит: «Никто, Никто» — и это «Никто» спасает Одиссею жизнь. Какое-то головокружительное влечение у меня к нему: вот уже все, он приехал к жене и сыну, но он садится на корабль и исчезает неизвестно в каких волнах.
Роберт Стивенсон. «Остров сокровищ»
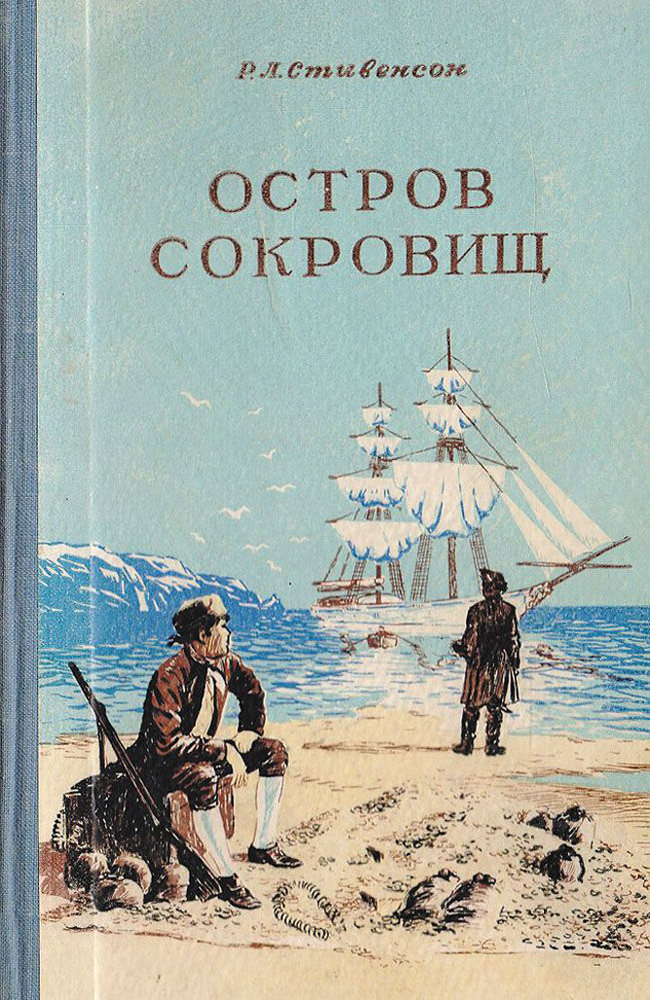
Обложка романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Архангельск, 1950 год
Архангельское областное государственное издательство Стивенсон написал две книги, обе лучшие на свете, но «Остров сокровищ» — на самом первом месте. Это совершенно замечательная книга, книга как таковая, которая невероятным талантом писателя помещает тебя между людей, совершающих приключение за приключением: у них просто нет времени ни на что другое. «А теперь, мальчик, веди меня к капитану!» Понимаете? Это не то что ты сидишь в гостях: «Ой, а к нам вчера заходил патриарх всея Руси». Нет ни патриарха, ни гостей, а просто: «Веди меня к капитану!»
Лекция из курса «Как читать любимые книги по-новому» — про «Остров сокровищ», Кто был прототипом капитана Флинта и почему жестокость пиратов часто преувеличивали
Александр Пушкин. «Медный всадник»
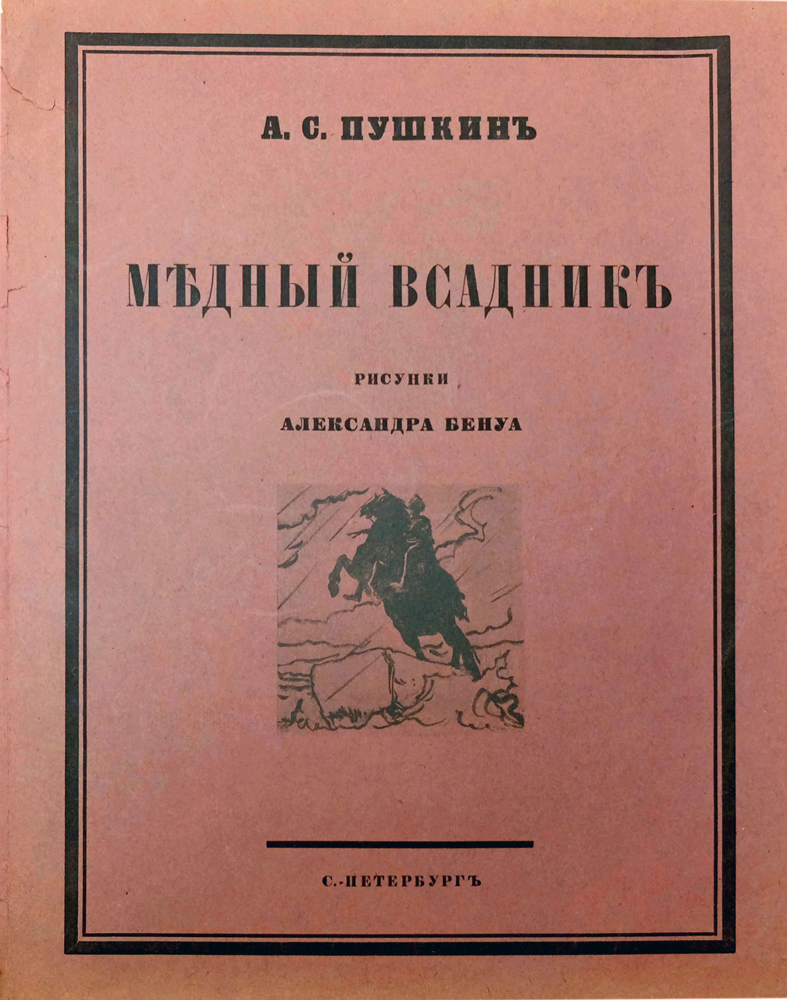
Обложка повести Александра Пушкина «Медный всадник». Санкт-Петербург, 1923 год
Комитет популяризации художественных изданий при Российской академии истории материальной культуры Вы можете представить библиотеку без Пушкина? Я не могу. У меня стоит десятитомничек, и я более-менее знаю, где какую цитату искать. Все, что случилось, случится и не случилось с Россией, описано в «Медном всаднике». Во мне нет никаких сомнений, что победитель не Петр, а Евгений. Хотя Евгений убегает от Петра, потому что это страшно, потому что Петр — убийца, как всякий царь, но в какой-то момент Евгений и Нева описываются одними словами, и вот это восстание Невы против Замысла с большой буквы «з» и есть победа. Когда царь Александр I во время наводнения выходит на балкон, он говорит: «С Божией стихией / Царям не совладеть». Так вот, «Божия стихия» Невы переходит в «Божию стихию» безумия Евгения, то есть побеждает не царь, а человек, «Божия стихия» человеческой природы.
Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени»
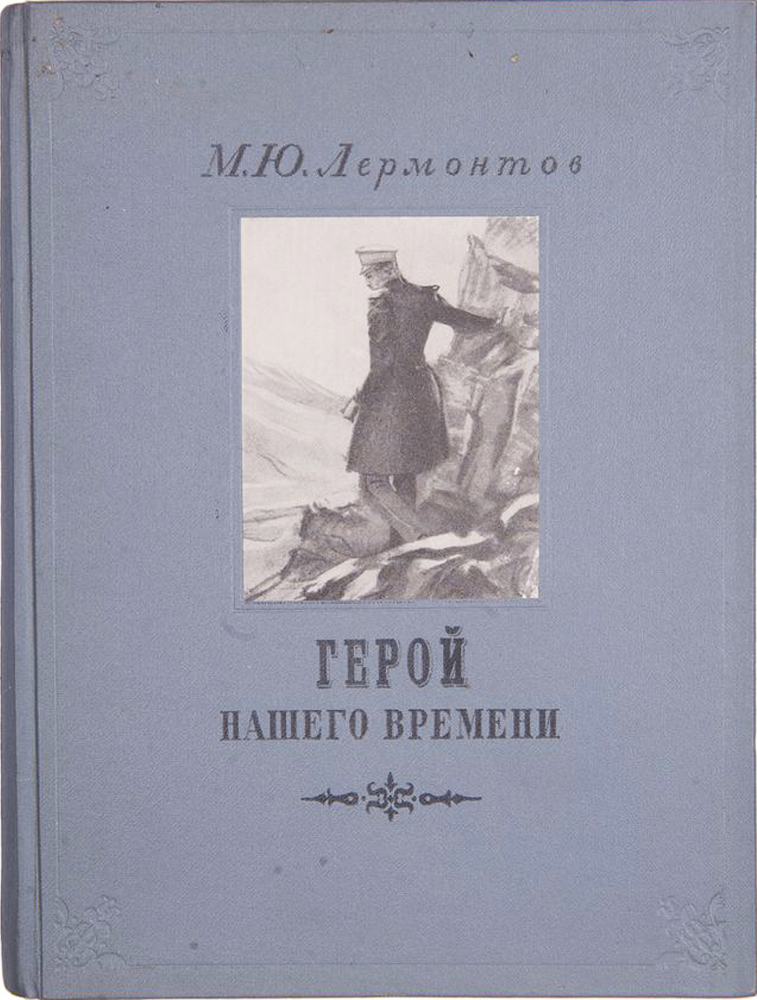
Обложка романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Москва — Ленинград, 1948 год
Детиздат У Зощенко есть фельетон , в котором управдом говорит речь о Пушкине — в 1937 году было 100 лет со дня его смерти — и договаривается до следующего: «Между нами говоря, Тамара ему, конечно, изменяла». Из зала ему кричат: «Наталья, а не Тамара». И он: «Разве? Ах да, Наталья. Это у Лермонтова — Тамара…» Это я к тому, что, сказав «Пушкин», ты не можешь не сказать «Лермонтов». Тем более что у Лермонтова есть недооцененная, совершенно прекрасная книга, которая называется «Герой нашего времени». Она как будто написана даже не иностранцем, а каким-то пришельцем — такой там свой русский язык, свои русские люди. Мы ведь не знаем, что такое русская литература для нерусского человека. Даже для меня, притом что я всю свою жизнь прожил в России, это скорее «страна, где ходят медведи», чем «страна, которой управлял Иван Грозный или Сталин». И объяснить, что в этой стране можно быть воспитанным человеком и жить с достоинством, страдать и одновременно причинять боль, невероятно сложно. Ведь романтизм — это же не только потрясающее течение и явление, романтизм — еще и живое слово. И когда через это слово — не в кино, но как будто в кино, правда? — мы видим человека, смотрим ему вслед, слышим, как он шутит, видим как он ходит, как не замечает, что ходит, — это потрясающе. В общем, Печорин — герой всех времен. Не скажу «и народов», но скажу «всех времен».
Курс «Неизвестный Лермонтов». Филологи о Лермонтове — обманщике царя, авторе непристойностей, нарушителе правил стихосложения, подражателе и певце обреченности
Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки»

Обложка поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Париж, 1977 год
© YMCA-Press
Даже не знаю, что тут говорить, — могу только стоять и кланяться Венедикту Ерофееву за то, что он ее написал, хотя мой друг, известный писатель, очень признанный, выпустивший много больших книг, говорил: «Далась тебе эта книжонка. Что ты в ней нашел? Что вы вообще все с ней носитесь?» Я был на похоронах Венедикта Ерофеева — там человек сто, а может, и больше молодых людей пока шло отпевание сидели во дворе церкви и пили. Под конец церковный двор выглядел совершенно как какая-нибудь канава. Именно про это Ерофеев и написал. Дело же не в том, что пить — это недостаток, да? «Москва — Петушки» — книга о пьянстве как о попытке вырваться из этого мира, где не понимают, как жить. Это вакхическое пьянство, когда человек уже не знает, кем он становится: то ли он выбегает из какого-то древнеэллинского леса в окружении вакханок и вдруг видит, что они все голые и прекрасные, то ли читает это в книге.
Гарольд Блум. «Западный канон»
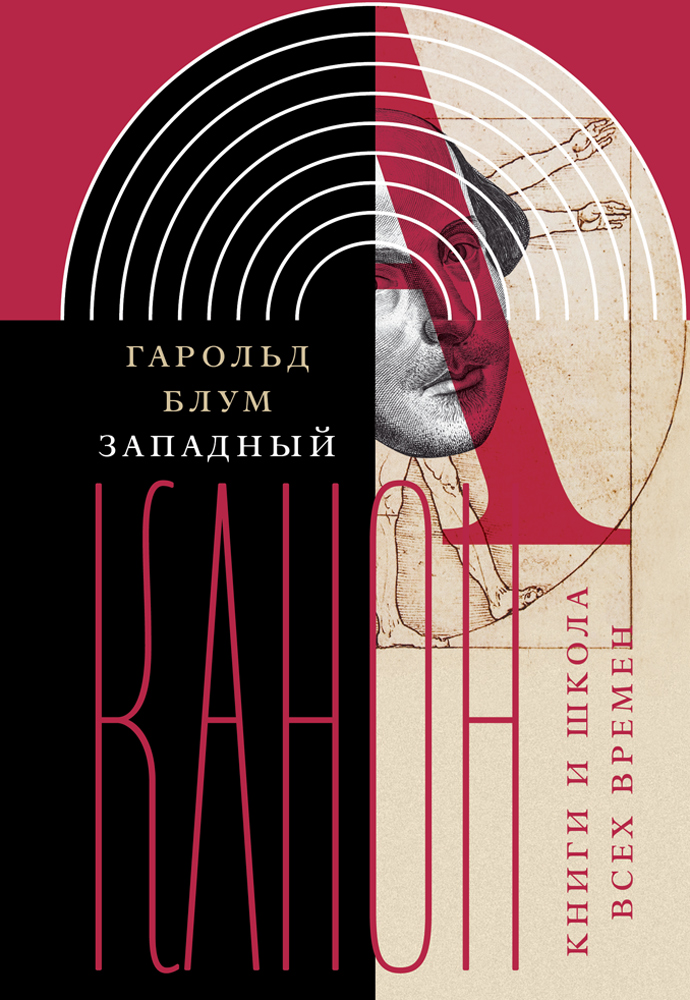
Обложка книги Гарольда Блума «Западный канон». Москва, 2019 год
© Новое литературное обозрение
Блум, профессор Йельского университета, знаменитый критик и литературовед, рассказывает в этой книге о двадцати шести главных авторах западного мира — от Данте до Толстого, от Гёте до Беккета, от Дикинсон до Неруды, — а в самый центр канона помещает Шекспира, который, как полагает Блум, во многом нас всех создал. Блум все расставляет по местам, при этом совершенно не учительствуя, — просто пишет, что думает, а ты читаешь и думаешь: «Да-да-да, да-да-да». В частности, он пишет, что сколько ни жило на свете писателей и поэтов, лучше всех был Шекспир, а на втором месте — Лев Толстой.
Лев Толстой. «Война и мир», «Хаджи-Мурат» и «Смерть Ивана Ильича»
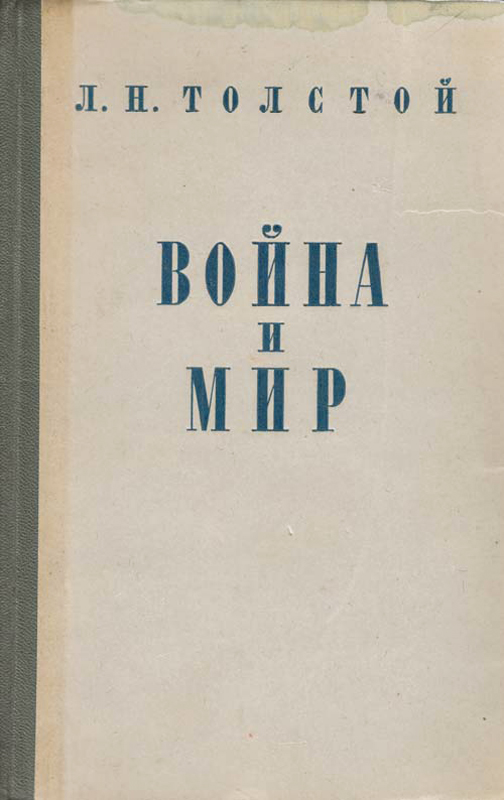
Обложка первого и второго томов романа Льва Толстого «Война и мир». Москва, 1955 год
© Государственное издательство художественной литературы

Обложка повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Таллин, 1949 год
Эстонское государственное издательство
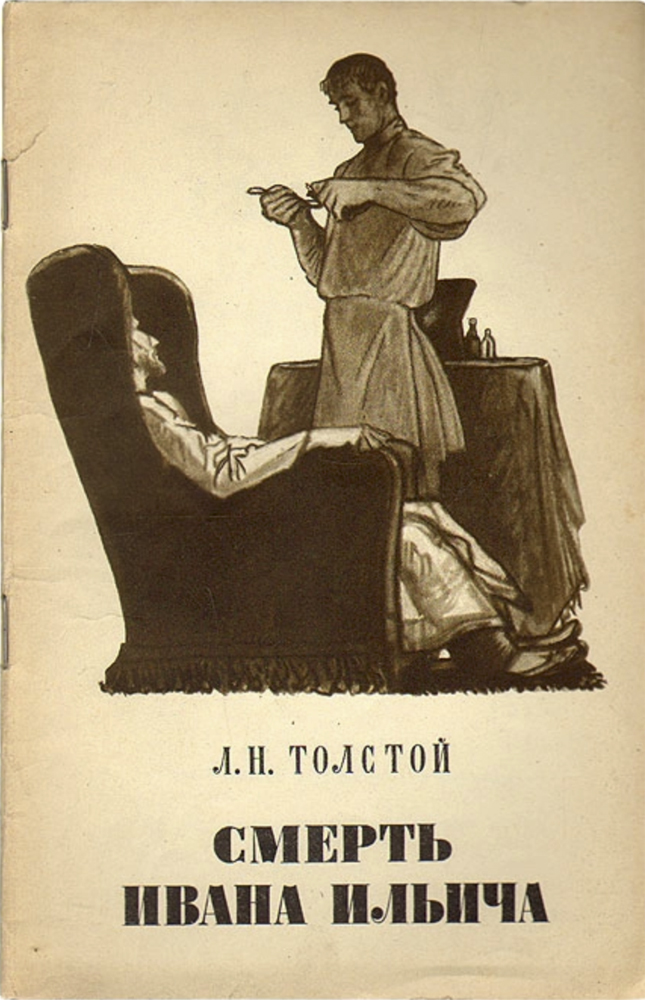
Обложка повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Москва, 1956 год
© Государственное издательство художественной литературы
Я выделил три книжки Толстого. Одна называется «Война и мир», ее я не буду пересказывать. Вторая — «Хаджи-Мурат». И третья — «Смерть Ивана Ильича». Толстой важен не только как мастер слова. Он ведь в своих книгах занимался самыми простыми, непосредственными делами. Когда его, уже страшно знаменитого, пригласили в какую-то школу и попросили сказать что-нибудь детям, он сказал: «Дети, не балуйтесь. Вы, наверное, балуетесь много очень? Так вот — не балуйтесь». Можно воспринять это так: ну, выжил из ума старик — и все. Но на самом деле в этом «ну не балуйтесь вы все время, побаловались — и хватит, ну алло, соберитесь немножко» — огромное важное сообщение про жизнь. Прочтя «Войну и мир» в 14 лет, я пришел к отцу, который был толстовцем, со словами: «Я прочел „Войну и мир“». А он посмотрел на меня и говорит: «Ну и что? Стал ты лучше?» Когда я рассказал это Исайе Берлину , он сказал: «А ведь он абсолютно прав. Действительно, зачем мы книги читаем? Стал ли ты после этой книги лучше, стал ли ты другим?» Вот так. Теперь «Хаджи-Мурат». Это книга о бесписьменных людях, которые живут по каким-то ненаписанным законам. Человечность этих людей только в том и состоит, что они живут неписаными, но врожденными правилами. А то, что эту книгу написал старый писатель, придает ей невероятный шарм. Больше всего у Толстого я люблю «Смерть Ивана Ильича». «Иван Ильич жил жизнью обыкновенной, то есть ужасной» — это не точная цитата, но почти дословная. Он жил этой жизнью, и вот он умирает. И что-то, вообще говоря, надо с этим делать, а сделать уже ничего невозможно. Книга эта, разумеется, о жизни и о том, что часть жизни состоит в смерти, в том, что надо умирать. Тем, что я писал и думал, я много превысил предел того, сколько человеку можно думать про смерть. Особенно когда пишешь стихи: там без смерти не обойтись. Хотя наверняка есть люди, которые думали больше меня — и наверняка более или менее так же безрезультатно. Так вот, в этой книге смерть тебе дают подержать в руках.
Курс «Лев Толстой против всех». Аудиолекции о жизни и смерти великого русского писателя, а также его смешные выражения, мудрые мысли, личные вещи и тест на литературное чутье
Федор Достоевский. «Записки из подполья», «Идиот»
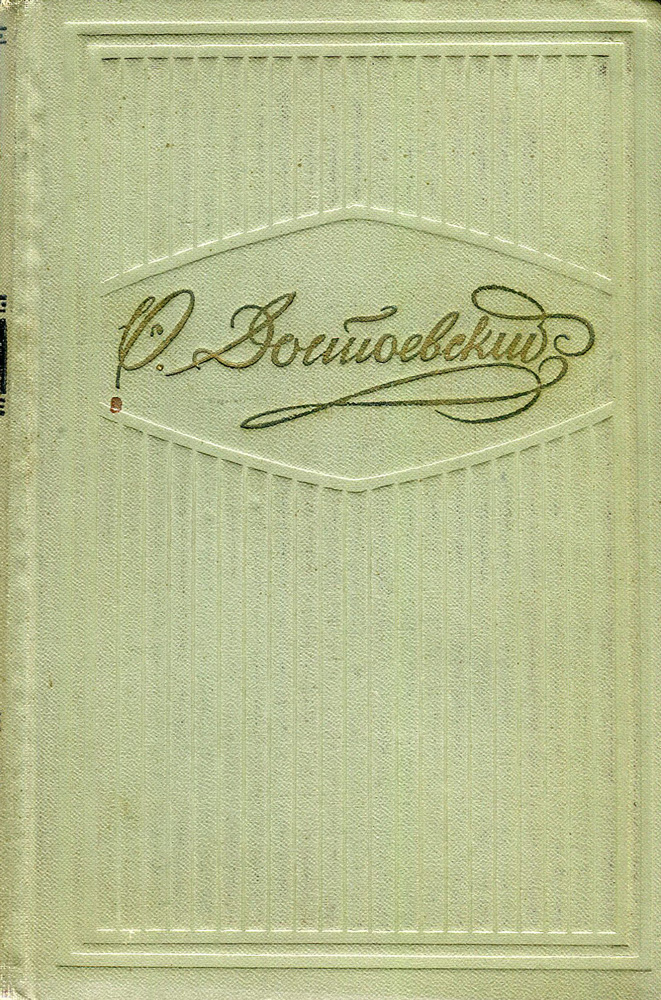
Обложка первого тома собрания сочинений Федора Достоевского. Москва, 1956–1958 годы
© Государственное издательство художественной литературы
Скажешь «а» — надо говорить «б». Скажешь «Толстой» — говори «Достоевский». Герой «Записок из подполья» говорит, причем говорит задыхаясь: «Я ненавижу всех — и тебя, слушающего меня, тоже ненавижу. А которые не ненавидят, я их тоже ненавижу, потому что они не понимают, в каком мире живут». Он заходится: «Дальше сорока лет жить неприлично» — и продолжает: «А я до восьмидесяти лет проживу!.. Дайте дух перевести…» Это ответ на замечательное качество человека — ненавидеть. Не то что я вам советую прочесть эту книгу, чтобы избавиться от ненависти, нет. Ее можно прочитать, чтобы увидеть ненависть, заглянуть ей в лицо. Мы довольно неплохо объясняем друг другу, каково на земле зло, рассказываем, обсуждаем что-то плохое. Есть известная история, как Тургенев с Толстым, уже помирившись, разговаривали, Тургенев рассказал про какого-то человека что-то смешное, они смеялись. Через некоторое время Тургенев рассказал про другого человека, и они опять рассмеялись. Тургенев сказал: «Смешной человек». Толстой сказал: «Да-да, смешной человек. Вообще-то, все люди — смешные, и вы смешной, и я». Как-то все поставил на места. Так вот, рассказывать, какие люди смешные, или дураки, или злые, мы умеем, у нас этот дар сидит в кончиках пальцев. Другое дело — написать, какими прекрасными бывают люди, так, что почти не веришь, что это живой человек. А он невероятно живой, князь Мышкин. Я считаю гениальной постановку «Идиота» в БДТ в Ленинграде, где Смоктуновский имеет голос, который человек не может иметь, и каждый раз почему-то вот так странно открывает дверь: верхний левый угол двери открывает правой рукой — нельзя не влюбиться. «Нельзя не влюбиться» или «этого не может быть» — звучит очень беспомощно, правда? Но нельзя не влюбиться. Перед нами не просто хороший человек, а какой-то небывало хороший.
Неизвестный Достоевский. Патриотические стихи, вольный перевод Бальзака и сентиментальная проза — что и как писал Достоевский, прежде чем стать великим писателем
Мигель де Сервантес. «Дон Кихот»

Обложка первого тома романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Москва — Ленинград, 1932 год
Издательство Academia
Для меня Дон Кихот отчасти некая предтеча князя Мышкина, потому что он хочет только прекрасного и благородного. У него в этом романе довольно много сочувствующих, но и те иногда над ним смеются, даже доброжелательные, а остальные просто пинают. Ну и, как говорили в школе, развертывается широкая картина мира: человек хочет жить как он хочет, ничего плохого не хочет, хочет любить какую-то барышню, эту вот Дульцинею, но ничего из этого не получается. И вдруг вместо того, чтобы покивать головой — да, так устроен мир, — ты с помощью Сервантеса приходишь к выводу о том, что это плохо, что это несправедливо. Тебе становится жалко этого героя. И как бы с каждой страницы звучит: «Вот вы увидите, еще будет русский писатель, он напишет роман „Идиот“, тоже про такого человека». Хотя я вовсе не говорю, что две эти книги так уж сходятся. «Дон Кихот» гораздо больше про здравый смысл, который ненавязчиво окутывает тебя и говорит: «Не завирайся!» Не завирайся, будь ты хоть герцог, хоть Дон Кихот.
Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества», «Осень патриарха»
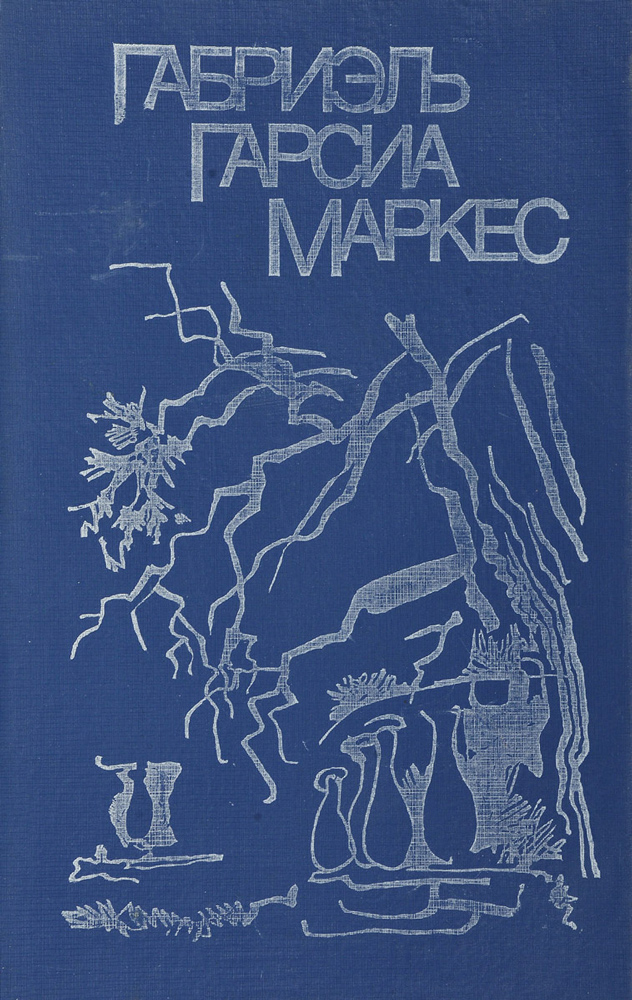
Обложка сборника произведений Габриэля Гарсиа Маркеса, куда вошли романы «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха». Кишинев, 1981 год
© Издательство «Литература артистикэ»
Дальше идет книга Маркеса «Сто лет одиночества». Чем она не похожа на другие книги? Она написана про страну, которую знает один Маркес, хотя не очень, по-моему, понимает, как туда добираться. Там ни на что не похожи ни природа, ни имена людей, но ты буквально с первой — ну, хорошо, со второй — страницы готов отказаться от всех своих знаний о знакомых тебе странах, о родине своей, о стране эмиграции, презреть географию, только чтобы узнать, что будет происходить в этих влажных джунглях. У меня есть еще одна любимая книга Маркеса — «Осень патриарха». Проходит слух, что адмирал, ближайший друг патриарха, организовал против патриарха заговор. Об этом упоминается как бы вскользь, больше ничего не говорится. И все думают, что миновало. Названы имена всех, кто в этом участвовал, — подозрение патриарха относительно адмирала рассеивается, они начинают жить спокойно. Проходит какое-то время, и патриарх приглашает на ужин тех, чьи имена упоминались в связи с заговором, кроме адмирала. Все сидят за столом, открываются двери, и вносят адмирала — поджаренного, на большом блюде. Нарезают, раздают… Чем меня захватила «Осень патриарха»? Я считаю, это правильная гигиеническая книга.
Чарльз Диккенс. «Большие надежды»

Обложка романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Москва, 1952 год
© Государственное издательство художественной литературы
Диккенс — наполовину русский писатель в том смысле, что он с самого начала и переводился, и печатался в России, был в каком-то смысле предтечей и вообще сыграл огромную роль для русской литературы. И выбрать у него что-нибудь одно — значит обязательно отбросить что-то не худшее. Но все-таки я выбрал «Большие надежды», которые читал и по-русски, и по-английски. Хочу сказать о том, какая редкость в этой книге является нормой: Диккенс знает разные стороны жизни и не налегает только на черные. Герои этой книги, прежде всего Пип, — невероятные симпатяги. Когда мы с женой первый раз были в Лондоне, нам на каждом шагу попадались герои Диккенса с иллюстраций, которые всегда мне казались карикатурами. Помню, приехали в Сити — не самый живописный, не самый восхитительный район, да еще при их сером небе. И вот идут эти клерки — в пиджаках, в открытых рубашках, несмотря на холод. Время ланча, они немножко выпивши. Я подхожу к одному из них, говорю: «Простите, как пройти к Monument?» — я хотел посмотреть памятник в честь Великого лондонского пожара. А он говорит: «Monument? Male or female?» Простой стряпчий, понимаете? Я подумал: жалко, времени нет! Я бы его остановил, мы бы зашли в паб, выпили что-нибудь, посидели. И Пип тоже на меня так действует, и эта его возлюбленная невероятной какой-то нежности и благородства.
Лоренс Стерн. «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
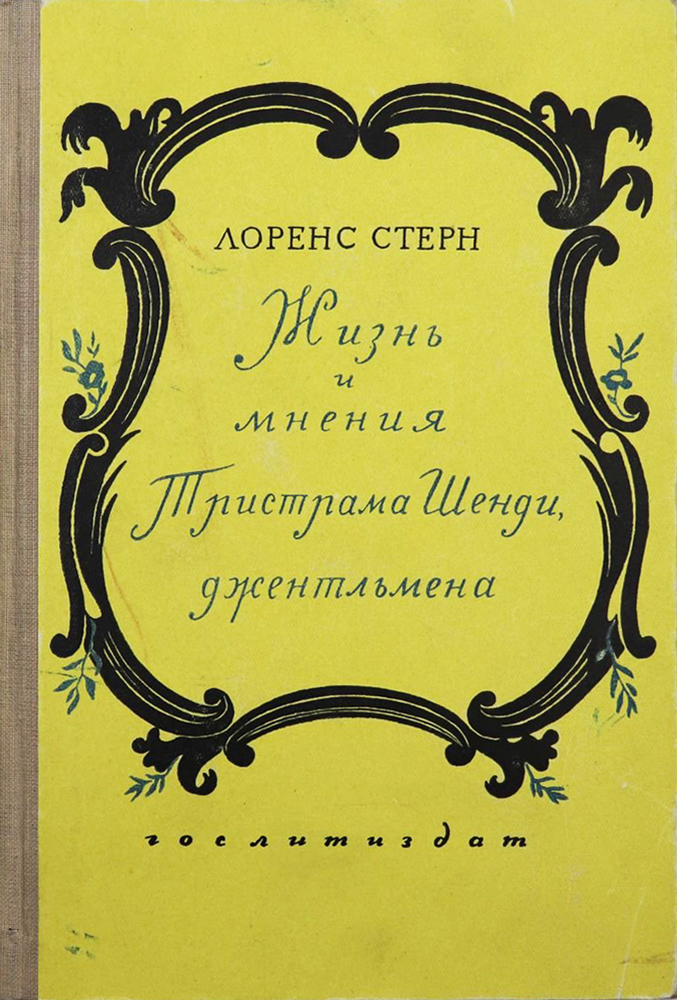
Обложка романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Москва — Ленинград, 1949 год
Государственное издательство художественной литературы
Одна из моих любимейших книг. Она никого ничему не научит, кроме того, что есть такое классное занятие — чтение. Ну и еще тому, что люди — интересные создания. Вот есть твое окружение, в нем есть замечательные люди, а есть незамечательные. Бо́льшая часть нашего окружения состоит из незамечательных людей: ездишь в метро, идешь по улицам — кругом обыкновенные люди. В «Тристраме Шенди» масса обыкновенных людей, которые как бы говорят нам, что не надо всех так уж сразу считать неинтересными. Не надо говорить: «Посмотри, какое скучное лицо». Просто если родился Лоренсом Стерном, ничего неинтересного в жизни нет, все заслуживает внимания. Если же тебе что-то не интересно, то это потому, что ты немножко, прошу прощения, но недотягиваешь до интересности. Зато Лоренс Стерн потратил некоторое время, чтобы этот монолог для тебя написать, и ты, можно сказать, за копейки получаешь первоклассную книгу, в которой есть все. Мы говорим: «В Библии есть все». В некотором смысле так же можно сказать почти про все книги, которые я перечислил, — про «Божественную комедию» и про «Тристрама» тоже.
Жорис Карл Гюисманс. «Наоборот»

Обложка романа Жориса Карла Гюисманса «Наоборот». Москва, 2005 год
© Издательство «Флюид ФриФлай»
Дальше я бы поставил книгу Гюисманса «Наоборот» — вещь, для меня очень существенную своей попыткой с помощью персонажей построить искусственную жизнь. Вообще, это страшно притягательный момент: неужели ты не в состоянии, особенно если ты богатый человек, создать себе жизнь по своему вкусу, чтобы жить без неприятного, без грязи, без уродства, без вульгарности? Я не говорю «без несчастий» — они, увы, обязательны. Но неужели ты не можешь просто жить жизнью, которая тебе страшно нравится, в которой ты можешь раскрасить цветы, додать им запах или, наоборот, чуть отнять?
Герман Гессе. «Игра в бисер»
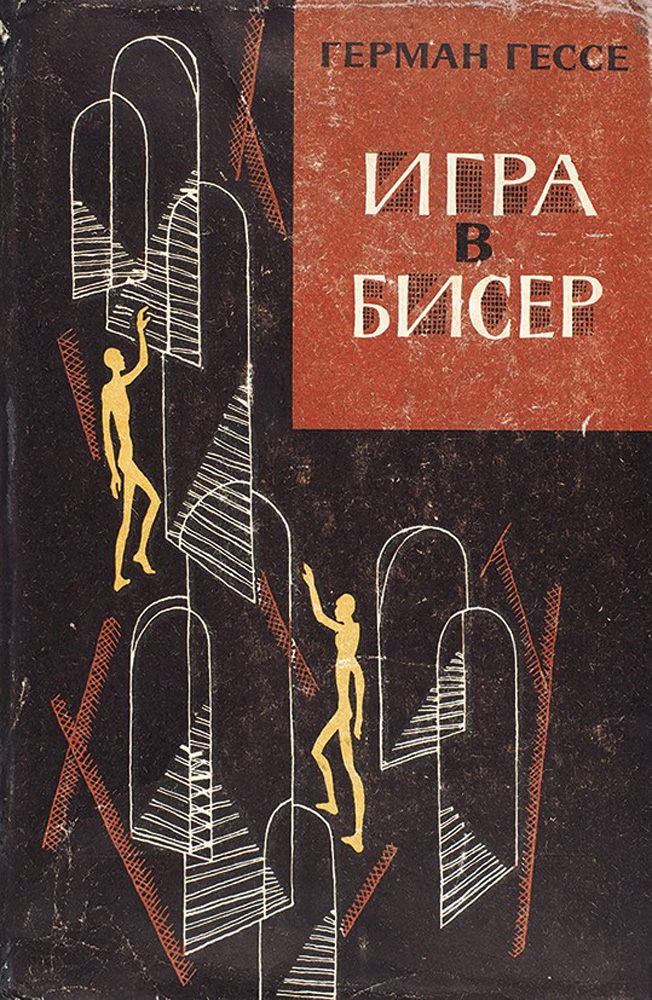
Обложка романа Германа Гессе «Игра в бисер». Москва, 1969 год
© Издательство «Художественная литература»
С Гюисмансом некоторым образом в моем сознании сопоставляется книга Гессе «Игра в бисер». Она тоже все время обещает, что можно прожить жизнь интеллектуально, точнее играя какими-то интеллектуальными ценностями. Ты читаешь Гессе, остается 100 страниц, а перед тобой все еще маячит возможность этой искусственной прекрасной жизни, жизни интеллекта. 50 страниц, 20 страниц — и тут ты понимаешь, что такая жизнь невозможна. Это страшное разочарование, но попытка сама по себе очень смелая, даже дерзкая. У Гюисманса эта попытка еще милее, потому что он ее не стыдится. А Гессе проговаривается в конце, что, мол, не надейтесь. Не то что он говорит «надо пережить» — нет, он выше каких-то поучений. Ты просто читаешь книгу, все время прихватывая лишку воздуха, чтобы выдохнуть в тот момент, когда свершится это чудо, когда окажется возможным прожить искусственную жизнь, и с последними страницами понимаешь, что это невозможно. То есть впечатление от книги разочаровывающее, но разочарование очень внушительное. Уж не говоря о том, что знать, как по-немецки звучит название книги — «Das Glasperlenspiel» — тоже приятно.
Марсель Пруст. «В сторону Свана»

Обложка книги «В сторону Свана» — первого тома романа Марселя Пруста «В поисках за утраченным временем». Москва, 1927 год
Издательство Academia
Когда я слышу, что это сложно, тягуче, нединамично, я вспоминаю одну историю. Был такой советский писатель-юморист Ласкин. Он как-то рассказывал, что у него был тяжелый день, он много работал с утра, потом, часа в четыре, устал и подумал: «Поеду сейчас в клуб». «Клуб» — это, разумеется, вымысел: так называли ЦДЛ — советское ресторанное предприятие, где собирались писатели. «Поеду, посижу там, выпью, расслаблюсь немножко». Пришел, сел, а через столик от него — компания молодых людей. Сидят, орут, матерятся — у него даже голова заболела. Он встал, подошел к ним и сказал: «Молодые люди, простите, пожалуйста, но я приехал сюда расслабиться. Вы громко кричите, материтесь, а я все-таки с утра работал». И вдруг один, невысокого роста, встает и говорит: «А что ты такое писал, говно собачье, что ты так устал?» Это был начинающий писатель Юз Алешковский. Рассказал я это вот для чего: чем ты таким занят, что тебе тяжело читать Пруста? На что ты тратишь свои мозги? Если тратишь на свою работу — так приверни газ немножко, почитай Пруста все-таки, посмотри, что там написано, как там говорят совершенно не на твоем языке, от которого продохнуть нечем. Солженицын как-то сказал в интервью, что, конечно, там, на Западе, есть литература, но чем она занимается? Три страницы тратит на описание куста боярышника. Ну послушай, ты же говоришь, что ты пророк, ты хочешь проповедать свое мнение о том, что такое писатель, — ну включи что-нибудь, что приподняло бы тебя немножко. Это книга вот о чем: «Знаете, у меня вот такое чувство природы». — «Нет-нет, у тебя и чувства природы нет». — «Знаете, я вот так людей понимаю». — «Нет-нет, ничего ты не понимаешь». Короче говоря, открой Пруста, читай: пойми свое место и пойми место Пруста.
Джеймс Джойс. «Дублинцы»
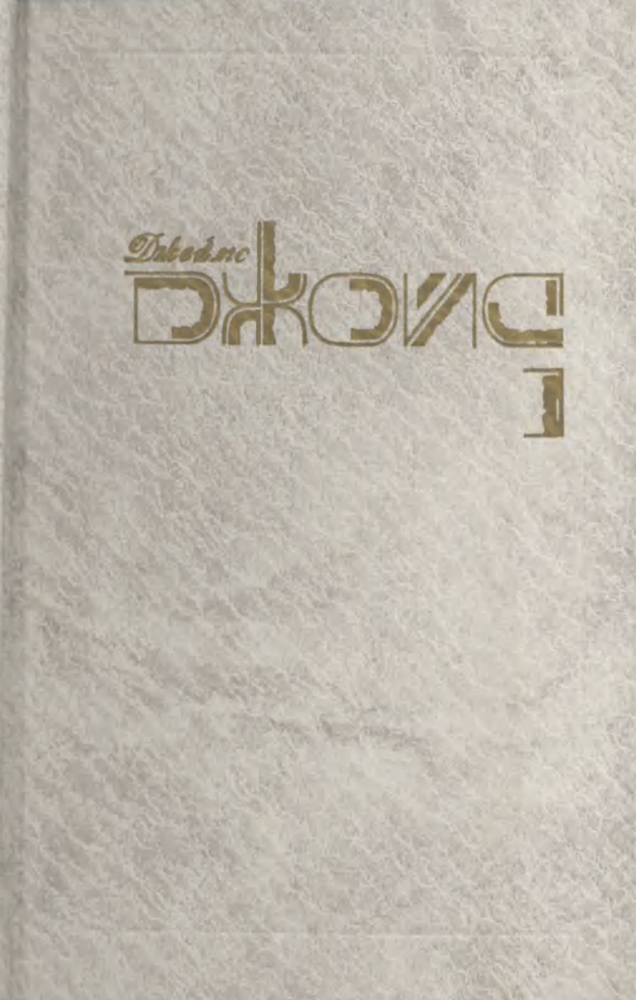
Обложка первого тома собрания сочинения Джеймса Джойса, куда вошел сборник рассказов «Дублинцы». Москва, 1993 год
© Издательство «Знаменитая книга»
«Дублинцы» Джеймса Джойса — совершенно замечательная книга. Если бы Джойс не написал «Портрет художника», не написал «Улисса», не написал «Finnegans Wake» , то все равно после «Дублинцев» это уже был бы писатель экстра-класса. В этой книге есть один рассказ, называется «Встреча». Если бы произошла какая-то катастрофа и надо было бы сохранить из всего Джойса что-то одно, я бы сохранил этот рассказ, великолепную иллюстрацию к тому, как человек развивается. Для меня невероятно ценное в нем — позиция неучастия писателя. Неучастия в жизни, неучастия в повествовании. Такая «неучаствующая позиция повествователя» тоже бывает пронзительной, и именно она породила Сэмюэля Беккета. Рассказ о том, как два мальчика решили прогулять школу, ушли из города и оказались в пустынном большом поле под Дублином. И вдруг к ним подходит какой-то странный человек, начинает говорить на непонятные темы — сначала про девочек, потом про мальчиков, что их надо пороть: «И вашего друга, который вон там носится, его тоже надо пороть». А это обыкновенные мальчики, зашоренные школьной программой, и вдруг их простой, понятный мир рушится. Возникает ощущение приближающейся трагедии, хотя в результате никакой трагедии не происходит. Но ужас от этого рассказа исходит — настоящий, чистый, я бы сказал, горный воздух ужаса.
Уильям Шекспир. «Гамлет» и другие пьесы
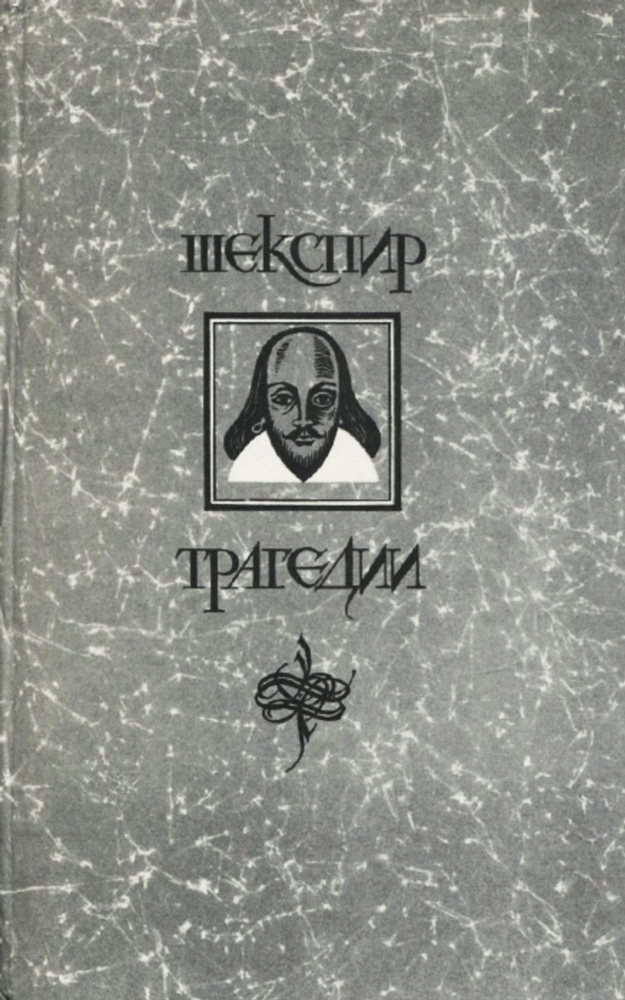
Сборник трагедий Уильяма Шекспира, куда вошли пьесы «Гамлет», «Макбет» и «Король Лир». Москва, 1983 год
Переводы Михаила Лозинского и Бориса Пастернака© Издательство «Правда»
Дальше — Шекспир. Может быть, найдется такая книжечка, где будут только «Гамлет», «Макбет» и «Король Лир». У нас есть очень хорошие переводы Бориса Пастернака и Михаила Лозинского, только надо печатать их вместе. Пастернак — какой-то полет сценичности этого всего, а Лозинский возвращает нас к тому, что там происходит, чтобы мы не спутали двор Макбета с двором Гамлета. «Гамлет» — это вообще пьеса о каждом человеке. Вот человек рождается, например, в еврейской семье, и все говорят: «Посмотрите, ну принц, настоящий принц». Он живет, как принц, в замке, он наследник трона, горя не знает, а потом — может быть, в 18 лет, а может быть, в 80 (это все равно) — он впервые замечает, что происходит вокруг него. Я не буду пересказывать — кто не хочет читать пьесу или смотреть ее в театре, тот может прочитать 20 строчек Пастернака: «Гул затих. Я вышел на подмостки». Это стихотворение тоже называется «Гамлет» и написано человеком, который великолепно перевел «Гамлета» на русский язык. Я настаиваю, что оба перевода невероятно хороши и оба требуют прочтения.
Антон Чехов. «Студент» и «Новая дача»
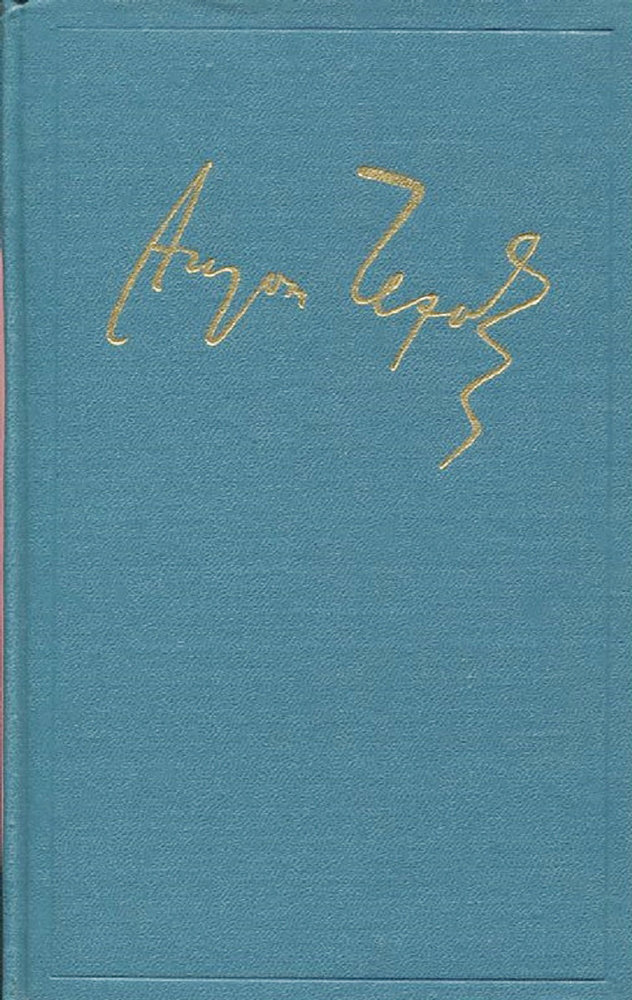
Обложка первого тома полного собрания сочинений Антона Чехова. Москва, 1987 год
© Издательство «Наука»
После англичан, Джойса и Шекспира мы подошли к Чехову, страшно почитаемому в Англии, страшно почитаемому вообще любым живым человеком, кроме тех, кто его ненавидит за то, как он их описал. Вот, например, Ахматова очень не любила Чехова, всячески подчеркивала, что он врач по профессии и так далее. Это все, я считаю, оттого что он так изобразил учительниц, фельдшериц. Молодость Ахматовой в провинциальной семье была той жизнью, которую описывает Чехов, и она не любила, по-видимому, когда ей об этом напоминали. У него есть два рассказа, о которых надо сказать особо. Один — просто за гранью оценки. Это совершенно прекрасный рассказ «Студент». Второй — «Новая дача», в котором инженер покупает дачу и хочет завести в деревне новые порядки, а крестьяне воруют у него лес. Наконец он решается и говорит: «Я для вас делаю то-то и то-то, а вы так-то себя ведете. Не могу вас не презирать». Они расходятся и говорят: «Видишь, говорит, что призирать будет». То есть не покинет их в старости, а призрит, даст им еще что-то хорошее.
Ален-Фурнье. «Большой Мольн»

Обложка романа Алена-Фурнье «Большой Мольн». Москва, 1960 год
© Государственное издательство художественной литературы
«Большой Мольн» Алена-Фурнье — тоже из книг, которые на меня произвели огромное впечатление тем, что бывают такие чистые и чисто страдающие люди. Главный герой — мальчик-одиночка, вытесненный из класса. В класс поступает новый мальчик, первый как-то в него вцепляется, и это рассказ об их дружбе. Я ужасно ценю книги про честных людей, про чистых людей — только действительно про небывало честных, а не ходульные истории. Для меня «Большой Мольн» еще имеет милоту одного воспоминания. Я ехал в дневном поезде из Ленинграда в Москву, в Бологом сошел на перрон, а из соседнего вагона вышел Александр Солженицын, с которым я был поверхностно знаком. Он тогда еще не был таким великим писателем, а просто написал «Ивана Денисовича». Мы поздоровались, и мне ужасно захотелось что-то для него сделать. Я сказал: «Могу ли я что-то… Вот, везу книгу Алена-Фурнье „Большой Мольн“. Хотите, если нечего читать, я вам ее дам?» Он сказал: «Мне есть что читать». Мы разошлись по вагонам. Я подумал: «Нет, это как-то нехорошо. Он едет одинокий, а я читаю Алена-Фурнье, и мне мама дала с собой хороший завтрак». Я зашел к нему в купе с завтраком действительно порядочного размера: «А вот мама мне дала очень большой завтрак, могу ли я с вами поделиться?» — «Нет, спасибо, у меня тоже есть завтрак». Солженицын занимал два места, то есть купил себе два билета. Перед ним лежали огромные схемы, графики, что-то напечатанное на машинке — он занимался историей Тамбовского бунта . И я подумал, что предложение этому человеку читать «Большого Мольна» Алена-Фурнье могло прозвучать издевательством.
Николай Помяловский. «Очерки бурсы»
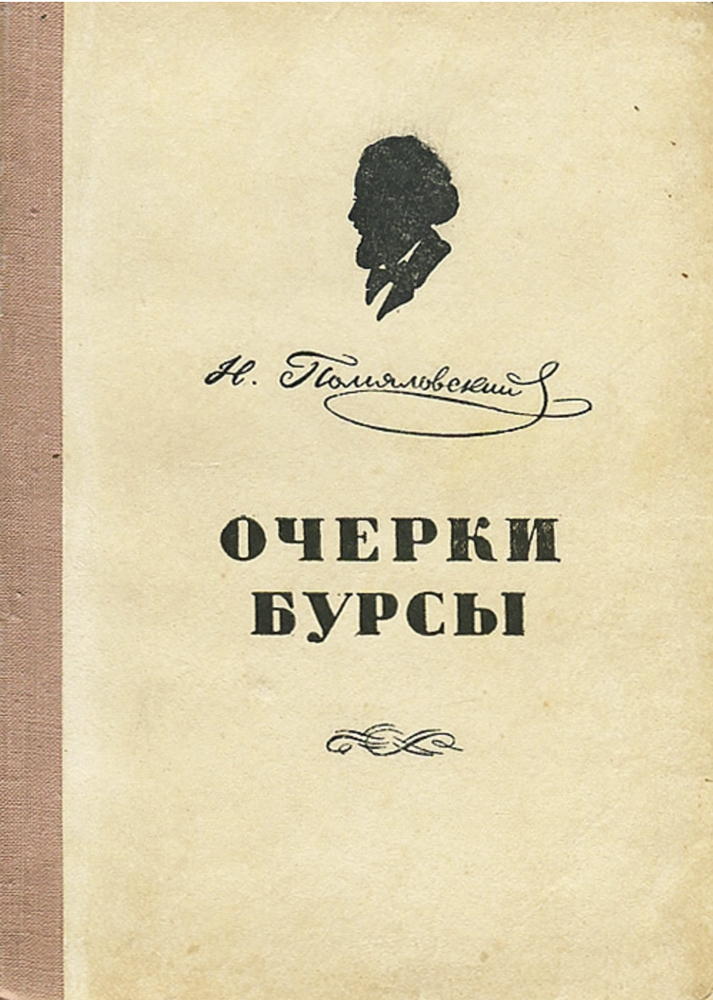
Обложка повести Николая Помяловского «Очерки бурсы». Чита, 1954 год
© Читинское книжное издательство
Если «Большой Мольн» — книга о чистоте и попытке спастись от грязи, затаптывания человека, то Помяловскому, наоборот, удалось написать полную безвыходность, как у трех богатырей перед камнем: налево пойдешь — плохо, направо — плохо, прямо — тоже плохо.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна»
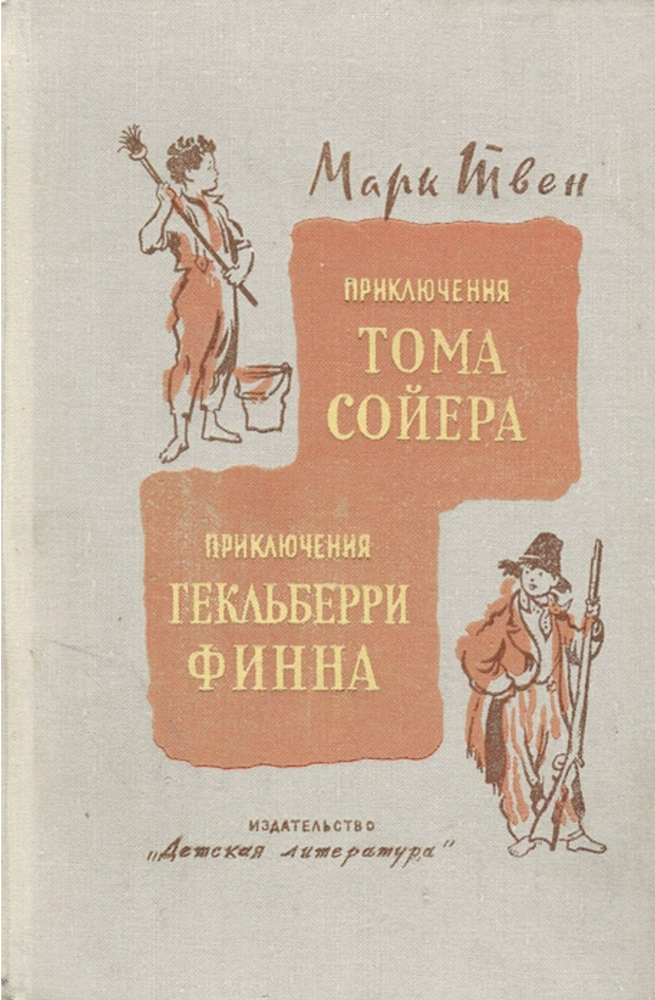
Обложка книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна». Москва, 1974 год
© Издательство «Детская литература»
Американцы — новая нация. Они в свое время не могли привезти с собой писателей, чтобы на «Мейфлауэре» был какой-нибудь Диккенс, так что вырастили своих. И у меня, и у огромного количества других людей появилось желание что-то еще узнать про этого мальчика, Гека: как и что он делал, какими словами говорили актеры в пьесе, с которой они ездили по провинции. Эта книга, с одной стороны, пособие по практическому выживанию и в то же время свершение чего-то воображаемого, того, во что ты не очень верил. А тут вдруг оказывается, что есть такая жизнь, такие adventures .
Герман Мелвилл. «Моби Дик, или Белый кит»
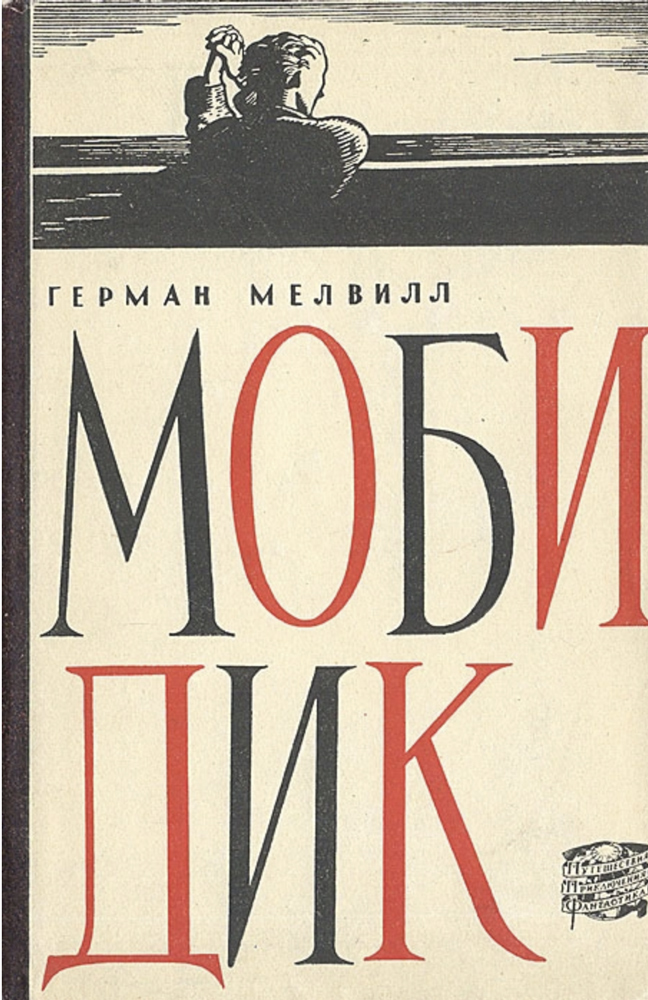
Обложка романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». Москва, 1962 год
© Географгиз
Для желающих что-то понимать про Америку «Гекльберри Финн» и «Моби Дик» — это классика. Помните, в «Моби Дике» в нантакетской таверне висит картина, трудно разобрать, что на ней изображено, поскольку она уже обсижена мухами, но впечатление, как будто бы на ней изображен белый кит. Когда подходишь к этой картине и вглядываешься, оказывается, что на ней действительно изображен белый кит. Вот это честный разговор, понимаете? Всматриваешься — и действительно белый кит. Это мем «Моби Дика», я считаю. Мем на тему того, как самая буйная фантазия уступает обыденной жизни. Немножко красиво сказано, но речь именно об этом.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби»
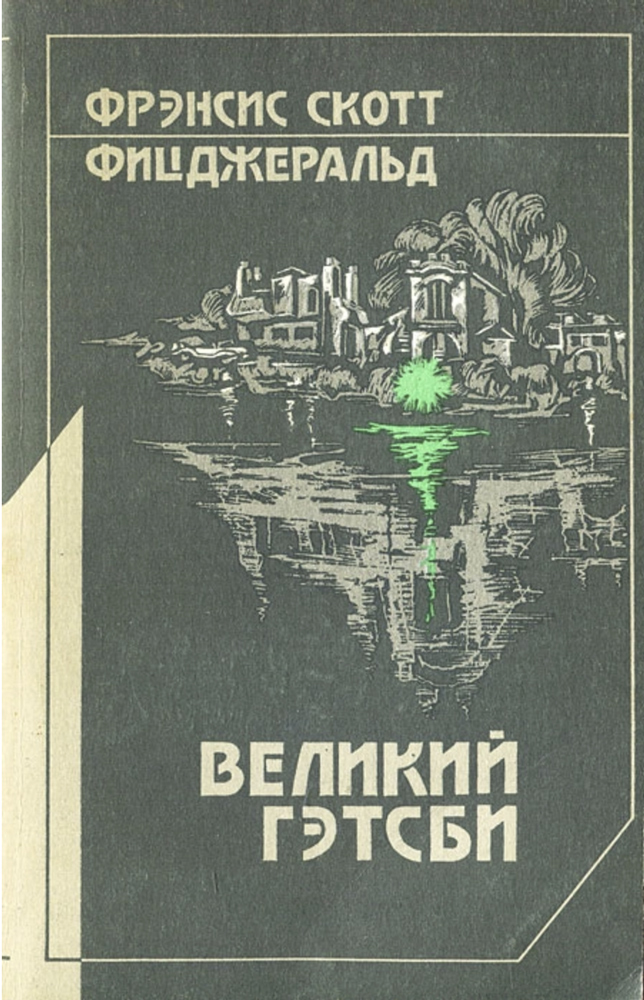
Обложка романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Иркутск, 1987 год
© Восточно-Сибирское книжное издательство
Это книга о том, как с ночной пьянки на частной богатой вилле выезжает огромный караван машин, одна из них стукается о камень, у нее отлетает колесо. Машина перегораживает движение, внутри сидят двое мужчин. К ним подходят, говорят: «У вас колесо оторвалось». Тот, кто за рулем, отвечает: «Да знаем, знаем» — и врубает скорость. Машина с места не двигается, им кричат: «Что вы газуете, колесо же оторвалось?!» А он говорит: «Но попробовать-то можно». «Попробовать-то можно» — вот это замечательно. Ты и кайф сохраняешь, потому что выпивши, и у тебя все в порядке: ты в машине, ты никуда не едешь, светает. Попробовать-то можно, правда? В этом весь «Великий Гэтсби».
Анна Ахматова, Борис Пастернак и другие
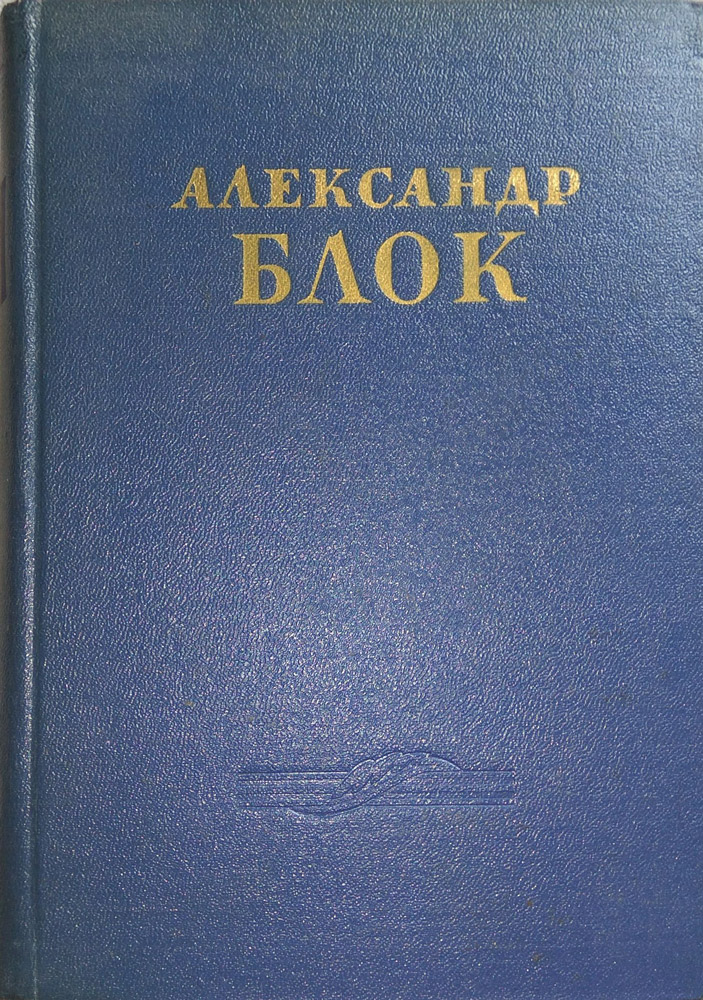
Обложка первого тома собрания сочинений Александра Блока. Москва, 1955 год
© Государственное издательство художественной литературы
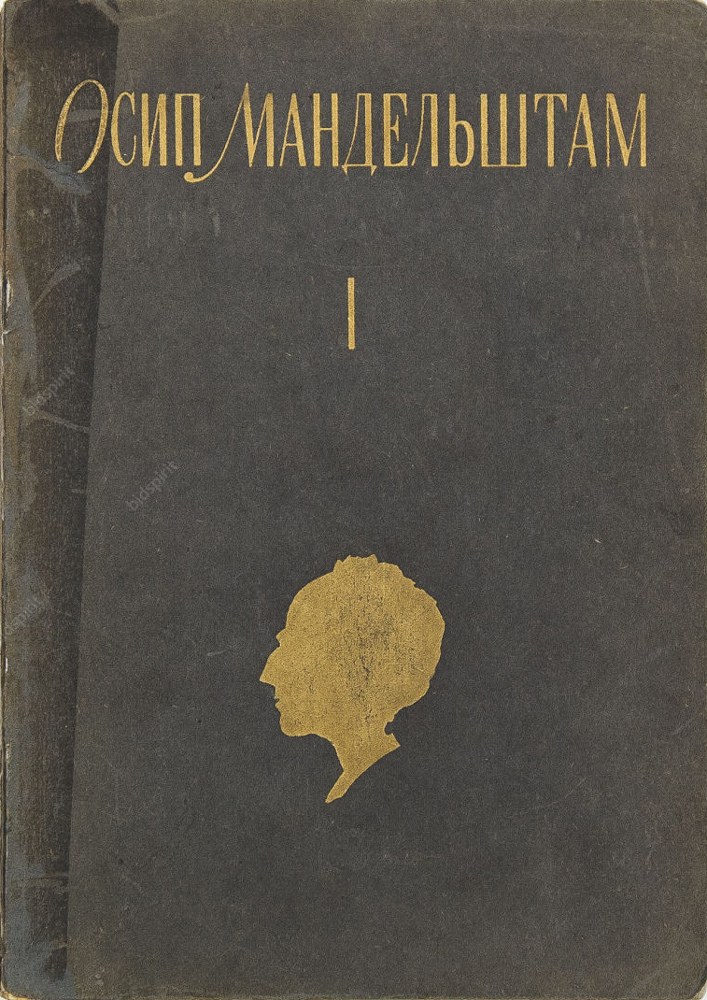
Обложка первого тома собрания сочинений Осипа Мандельштама. Нью-Йорк—Париж, 1967–1981 годы
© Международное Литературное содружество; Издательство YMCA-PRESS

Обложка поэтического сборника Бориса Пастернака «Сестра моя жизнь». Москва, 1922 год
Издательство Г. И. Гржебина
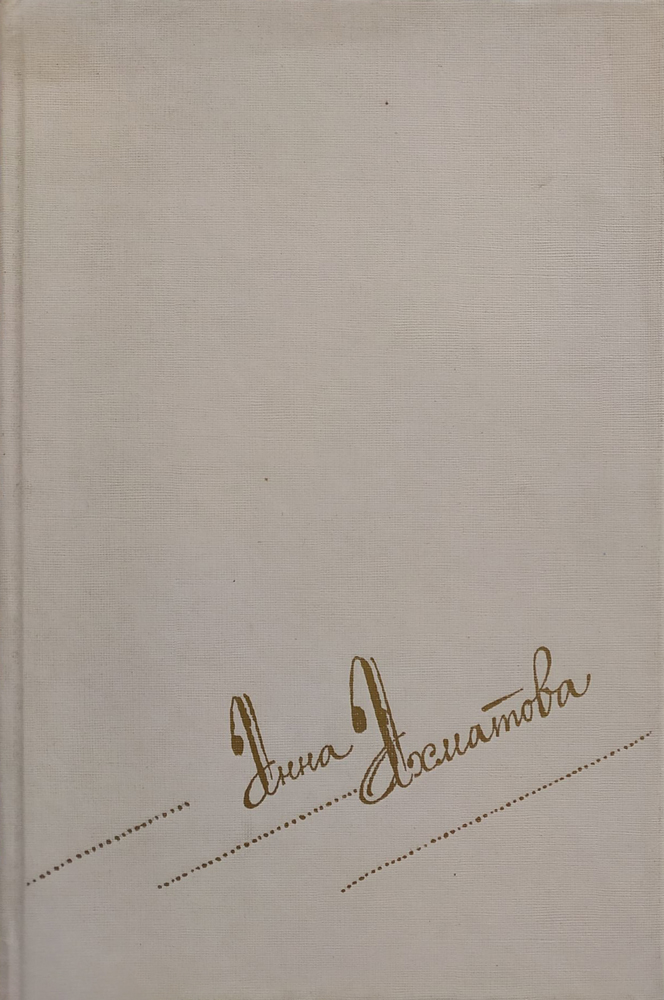
Обложка первого тома собрания сочинений Анны Ахматовой. Москва, 1990 год
© Издательство «Правда»
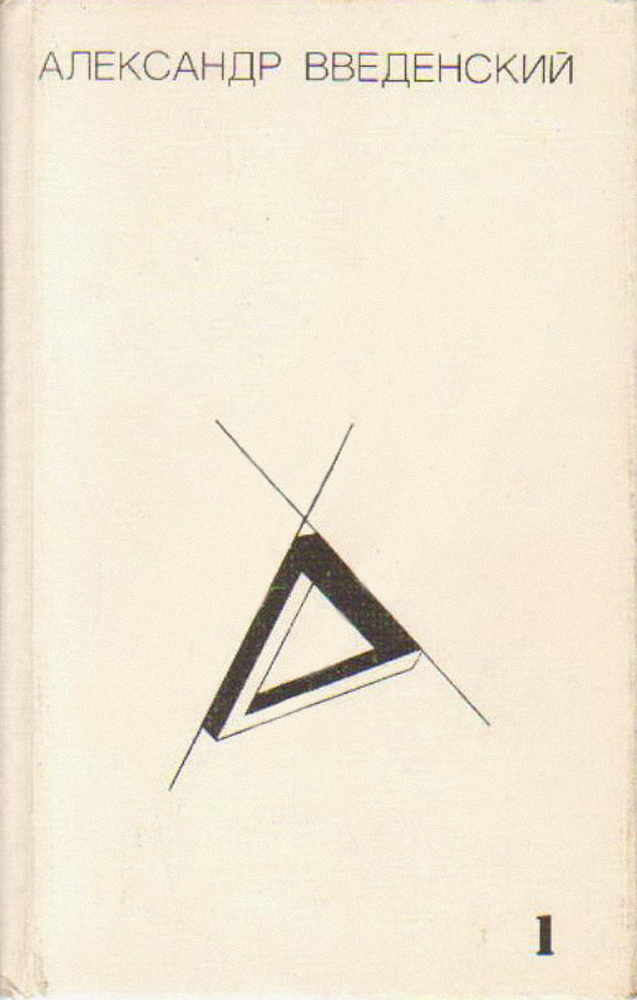
Обложка первого тома собрания сочинений Александра Введенского. Москва, 1993 год
© Издательство «Гилея»
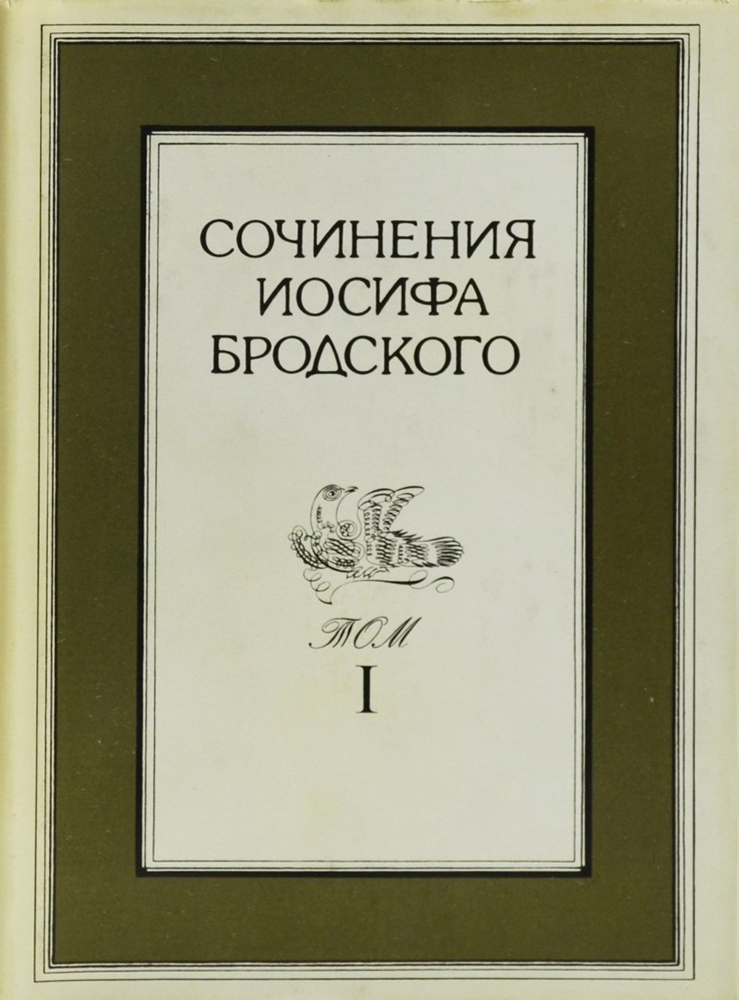
Обложка первого тома собрания сочинений Иосифа Бродского. Санкт-Петербург, 1992 год
© Пушкинский дом
В завершение я вот что хочу сказать. Дело в том, что я всю свою жизнь — вполне осознанно с 18 лет и до сих пор — пишу стихи и в таком виде себя предлагаю. От этого очень большая часть прочитанного мною — это стихи. Стихи можно читать только по-русски, native speaker может говорить только на native language . Из русской поэзии надо купить толстый двухтомник Александра Блока, еще должен быть толстый, насколько это возможно, Осип Мандельштам, еще — Борис Пастернак, обязательно с «Сестрой моей, жизнью», еще — один из первых двухтомников Ахматовой, которые вышли в перестройку. От всех обэриутов — Александр Введенский, от всего Введенского — «Элегия». Ну и все-таки Иосиф Бродский. Я говорю «все-таки» не потому, что у меня есть сомнения в качестве его стихов — там иногда гениальность просто просверкивает, — а потому, что это слишком близко. Говорить про Гомера как-то проще.