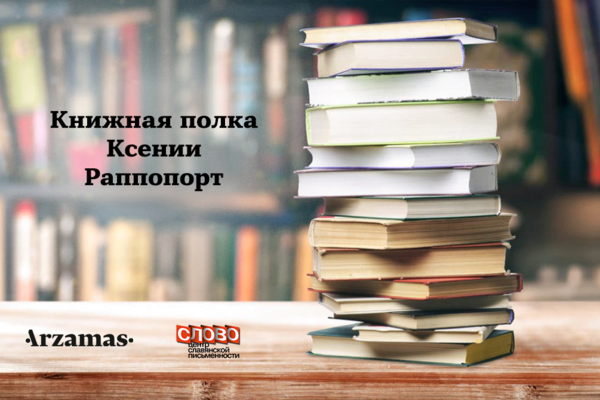Актриса Ксения Раппопорт рассказала Ольге Ципенюк о детской любви к Мандельштаму, о работе с текстом через тело, режиссёрских приёмах Льва Додина, юморе и безысходности у Чехова и своём моноспектакле по Бунину.

Ксения Раппопорт
Фото: Елена Дунаева
Ты не раз говорила, что в детстве глотала огромное количество русской классики…
Да, у меня как-то счастливо в этом смысле всё сложилось: со многими важными книжками я знакомилась до того, как они появлялись в школьной программе. С поэзией — абсолютно точно, потому что родители очень любят стихи. Всё детство перед моими глазами был самиздатовский томик Мандельштама в обложке, обтянутой ситцем — точно такое платье в цветочек было у мамы: видимо, остатки ткани пошли на переплёт. Помню, что читала Мандельштама, ни черта не понимая, но родители заставляли нас с сестрой учить стихи наизусть, и нам это доставляло удовольствие. Папа иногда записывал нашу декламацию на магнитофон — на огромные плёночные бобины. Помню, как услышала себя, пятилетнюю: «В столице северной томится пыльный тополь, / Запутался в листве прозрачный циферблат, / И в тёмной зелени фрегат или акрополь / Сияет издали — воде и небу брат». Прямо слышно, что я ничего не понимаю из того, что произношу. Так у нас в конце «Гамлета» выезжает телевизор, и охранник из клуба «Талион» монотонной скороговоркой зачитывает обращение к народу: «Вот место происшествия какой печали небывалой мы скорбим кругом лежит и стынет прах убитых». Примерно так же я читала стихи. Но всё равно это ложилось куда-то на подкорку, приучало к ритму, приучало слышать музыку слов. В школе для меня никогда не было насилием читать то, что задавали, я просто любила книги. Разве что, помню, корёжил поначалу «Тихий Дон», но в результате вчиталась. Можно начать без удовольствия — хорошая литература всё равно своё возьмёт и очарует.

«Гамлет» в постановке Льва Додина в МДТ — Театре Европы. 2016
Пресс-служба театра

«Гамлет» в постановке Льва Додина в МДТ — Театре Европы. 2016
Пресс-служба театра
Как слово трансформируется в тот или иной образ? Как в этом превращении делят функции актёр и режиссёр, ученик и учитель?
Нас учил Вениамин Михайлович Фильштинский, его школа всегда опиралась на действие и на физическое состояние героя. Работая с любым материалом, любым текстом, мы не имели права произносить написанное. Выйти и сказать слова, которые говорит персонаж, — такое просто запрещалось. Надо было в первую очередь проследить линию физического поведения героя, следовать за тем, что он делает. Если разговор происходит в бане, то сперва нужно было выйти на площадку и достоверно сыграть ощущения: распаренность, пот, какая часть тела первой откликается на влажный жар. Дальше от этого оттолкнуться, понять, почему из человека потёк именно такой монолог: потому что он устал, распарен, расслаблен и, может быть, от этого сказал больше, чем собирался. То же самое — если герой пьян, или замёрз, или долго чего-то ждёт. Гениальный рассказ Чехова «Спать хочется» в этом смысле — великий тренинг для актёра: попробовать понять, вернее, прочувствовать состояние человека, который смертельно хочет спать, а его всё время будят. Пограничное состояние между явью и сном, непонимание реальности — день это или ночь, кто будит и зачем. Играешь через «физику», через жизнь тела.
И всё-таки — как телесное переходит в вербальное? Когда текст обретает значение?
Я бы сказала, что только рождаясь из правильного физического самочувствия, текст становится достоверным. Не зря же в великой литературе часто подробнейшим образом описывается телесное, физические обстоятельства — они во многом определяют и то, что происходит, и то, что говорится. Но дальше, конечно, всё равно нужно думать, понимать и анализировать повороты событий. Разумеется, многое определяет трактовка режиссёра: какая мысль для него — главная, на какую тему вообще мы здесь рассуждаем, что волнует нас и, значит, будет волновать зрителя.
Студенткой ты играла Елену Андреевну в «Дяде Ване» — очкастую, сутулую, нелепую. А ведь у Чехова она явно хороша собой.
Про Елену Андреевну в тексте есть загадка. Астров говорит о ней «роскошная женщина», а потом продолжает: «…Она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой — и больше ничего». Войницкий сначала называет умницей и красавицей, но после упрекает: «Если бы вы могли видеть своё лицо, свои движения… Какая вам лень жить! Какая лень!» Всех будто бы раздражает вот это сочетание красоты и, по их мнению, безделья, бесполезности. Но ведь есть сцена, где она явно заботится о муже, тащит на себе его болезнь, все его страшные переживания, всё его занудство. При этом очень часто Елену Андреевну играют именно такой, как про неё говорят другие, забывая, что нет таких ремарок у Чехова: ведь нигде не написано «праздношатающаяся, пустая красивая женщина», правда? Тот же Астров, который говорит о её безделье, мучается: «Если бы Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день». То есть мужчины страшно её хотят и не могут добиться, понимаешь? «Вот она ходит, ленивая, ничего не делает» — это же именно в том смысле, что «не заводит романа, не отдаётся мне, ходит, понимаешь, и чарует, гадина!» «Ходит, и от лени шатается», — говорит Войницкий. Да не от лени! Он просто не может произнести «от страсти», от невыплеснутой женственности её. Мне показалось, что она именно такая.

«Дядя Ваня» в постановке Льва Додина в МДТ — Театре Европы. 2003
Пресс-служба театра

«Дядя Ваня» в постановке Льва Додина в МДТ — Театре Европы. 2003
Пресс-служба театра
Почему же она в твоём исполнении так, не побоюсь этого слова, ущербна?
Прежде всего потому, что я тогда ещё училась в институте и всячески боролась с понятием «амплуа». Мне казалось самым скучным играть героинь-красавиц. Она не реализована как женщина, не реализована как мать — в этом и есть ущербность. У неё никогда не будет ребёнка от этого старого мужа. Она не реализована творчески: училась в консерватории, но унылый супруг не даёт ей играть, ему мешают звуки пианино. Выходила замуж по любви, а не из расчёта, но, оглядываясь назад, понимает, что любовь была искусственной. Она ни в чём не реализована, и это на самом деле страшная трагедия. Перед нами человек, созданный Богом производить прекрасную музыку, рожать прекрасных детей и вообще всячески радовать мир, делать его лучше. Но Елена Андреевна ничего этого делать не может и, скорее всего, не сможет никогда, если только не бросит мужа, что для неё немыслимо. Она жизненно неопытный человек. Я пыталась показать её как молодую женщину, полную сил, невероятно жаждущую их проявления, реализации чего-то в ней заложенного, но ничего не могущую сделать — в тех обстоятельствах у неё просто нет такой возможности. Вместо этого она слышит бесконечные упрёки, чувствует только зависть и похоть. Сцена разговора с Соней, когда та просит исподволь сообщить Астрову о её, Сониной, влюблённости, часто играется так, будто Елена Андреевна использует Соню, чтобы поговорить с Астровым о чём-то своём. Мне кажется, что даже если это подсознательно и так, сама она этого абсолютно не понимает. Елена Андреевна искренне пытается помочь Соне, пытается быть полезной, быть подругой, чтобы хоть эту свою роль как-то реализовать. И вот она идёт на разговор с Астровым, и в результате, поскольку никакого опыта общения с ловеласами, как и вообще опыта с мужчинами, кроме мужа, у неё нет — естественно, попадается в ловушку.
Через несколько лет ты снова играла в «Дяде Ване», уже в театре у Льва Додина. Появилась ли разница между двумя твоими Еленами Андреевнами?
Конечно, и разница громадная. Но я всё равно тащила идею о том, что она не злая сучка.
А кто? Просто хорошая женщина в плохих обстоятельствах?
Дело не в том, хороша она или нехороша, её даже жертвой обстоятельств нельзя назвать. Знаешь, бывает, смотришь на человека — он полон жизни, полон стремлений каких-то, весь сочится желаниями, как спелая груша, и никак: ничего не получается, ничего не ждёт его в этой жизни, хоть он и так, и сяк пытается ею воспользоваться… Висит груша, нельзя скушать.
Как школа Фильштинского, основанная на передаче текста через физику героя, через телесность и поведение в конкретных обстоятельствах, работает в случае знаменитого чеховского бездействия, когда «ничего не происходит»?
У Чехова нет бездействия, нет! Нет уныния, нет ничегонеделания, и на самом деле очень живо всё происходит. Просто результат этих действий иногда вызывает уныние и тоску. Мы вроде как живём, что-то делаем, но иногда сядешь, задумаешься — господи, какая тоска! Антон Павлович всё про нас знал и, как мне кажется, очень любил людей. Часто говорят, что он их презирал, ненавидел, — я не согласна. Мне кажется, он их очень любил и жалел. Это, наверное, главное, что мне открыл Лев Абрамович Додин. Взять тот же «Вишнёвый сад»: кажется, что Раневская ни черта не делает, и Гаев тоже, но это совершенно не так. Они делают — просто делают как умеют. Едут с Лопахиным обедать в дрянной ресторан только потому, что надеются уговорить его одолжить им денег вместо того, чтобы рубить сад; пишут какие-то письма — то есть действуют. С той степенью вялости, которая им свойственна, но что-то делают!

«Вишнёвый сад» в постановке Льва Додина в МДТ — Театре Европы. 2014
Пресс-служба театра
Что в роли Раневской открыла тебе именно додинская трактовка чеховского текста?
Я вообще, можно сказать, только благодаря Льву Абрамовичу смогла как-то её полюбить. До начала работы с ним — ни когда я читала, ни когда смотрела спектакли — Раневская не вызывала во мне ни симпатии, ни сострадания. Как матери мне тяжело оправдать для себя какие-то её поступки. Мне казалось поначалу, что она не болеет по-настоящему за этот сад, не кладёт себя в костёр. Это потом я поняла, что костра-то и не было. Если бы его развели, может, она себя и кинула бы туда. Но у неё просто не было возможности спасти сад. Благодаря Льву Абрамовичу в какой-то момент я стала понимать, что для этой женщины по имени Любовь Андреевна любовь — главное в жизни. Даже родной брат говорит, что она порочна, но её порочность — лишь невероятная способность до конца, без остатка отдаться любви. Ей это дано природой, она готова за это платить и платит очень жестоко. Спокойно и гордо это про себя понимает и так живёт. Честно живёт.
Чехов именно такой её придумал?
Этого я не знаю. Было бы здорово, конечно, с ним поговорить. Герой же лепится из разных людей, вот и она явно соткана из каких-то историй, фраз, словечек, которые к Чехову попадали. То есть во многом лепится языковым способом. Раневская состоит только из своей речи — это ведь драматургия, а не проза, у нас есть только реплики. И это даёт гораздо более яркий образ, чем описание движений и действий. Хотя выспренний тон мне страшно мешал: «Шкафик мой родной… Столик мой». Или вот это: «О, моё детство, чистота моя! В этой детской я спала». С другой стороны, это всё-таки ещё и приметы эпохи. Сейчас, наверное, мало кто говорит «о!», но выспренне люди разговаривают сплошь и рядом — это не значит, что они плохие. Как и чеховские герои: они хорошие, просто хорошего выхода у них нет. То, что с ними происходит, происходит не оттого, что они растяпы, а от очень узкого выбора: участвовать в разрушении сада и таким образом спастись — или не участвовать и погибнуть.
То есть играется действие обстоятельств на людей, а не людей в обстоятельствах?
Когда мы только начинали репетировать «Чайку», я всячески использовала то, чему научилась. Вот появляется Нина: «Я не опоздала… Конечно, я не опоздала… Я гнала лошадь, гнала», — на этих словах я вбегала, задыхаясь, как будто пробежала кросс сто километров. В институте такое было бы принято на ура, но Додин совершенно этого не выносил, останавливал и просил «выключить физику и включить мозг». Мы репетировали роль вместе с моей однокурсницей Леной, и Лев Абрамович называл нас «девочки, раненные пластикой». Так я впервые столкнулась с необходимостью идти и за мыслью, выраженной в тексте, и за задачей режиссёра. А эта задача может быть сформулирована самым удивительным образом. Например, в какой-то момент Додин говорит: «Хочу, чтобы здесь были велосипеды», и вот я мучительно пытаюсь понять, что он имеет в виду. Премьера на носу, а я всё ещё не до конца разобралась, о чём эта сцена, и в очередной раз: «Лев Абрамович, Лев Абрамович!» А он говорит: «Ну понимаете, Ксенечка, два мальчика* на двух велосипедах, любовь моя и молодость моя». И вот что хочешь, то и играй. На самом деле меня такая образность невероятно заряжает — когда начинаешь понимать, что вот молодость твоя проезжает мимо, а вслед за ней — твоя любовь и уже ни на каком велосипеде ты за ними не угонишься. И как всё быстротечно, и как прекрасна юность, и как прекрасен юный ты, наивный в своей дурацкой упёртости. Это же и есть Нина Заречная: обычная девочка, упёртая провинциалка, совершенно не романтический персонаж. Мне вообще никогда не мечталось её сыграть, но именно в работе со Львом Абрамовичем что-то открылось — когда он объяснял, что это очень прагматичное, циничное юное провинциальное существо, которое хочет славы, хочет вырваться из своих обстоятельств и делает для этого всё, что может.

Ксения Раппопорт в роли Марии в фильме «Анна Каренина», режиссёр Бернард Роуз. США, Россия, 1997
Как ты оказалась в американской киноверсии «Анны Карениной» в 1997 году?
Попала в кастинг совершенно случайно и довольно смешным образом. У меня только-только родилась дочь Аглая. Как-то вечером мама осталась с ней сидеть, отпустила меня с подругами. Страшно хотелось вырваться из дома, напомнить другим и, главное, себе, что я ещё социальное существо. Мы пошли в какой-то бар. Одна из подруг в этот момент работала переводчицей для съёмочной группы «Карениной», и в баре оказалось несколько американцев из этой команды. Я понятия не имела, кто это такие. Они начали рассуждать что-то об «Анне Карениной», и тут — мы уже выпили к тому моменту — меня понесло. Я слегка встала в позу и начала объяснять, что они ничего не понимают про Россию и про Толстого. Почему? Потому что американцы. По-английски я говорю плохо, но при помощи подруги, которая всё время под столом пинала меня ногой, беседа состоялась. Как потом выяснилось, я рьяно доказывала режиссёру, что ничего он снять не сможет, потому что не знает о русской жизни, о русской душе, о женской судьбе, и что это за глупость — как Софи Марсо может сыграть Анну Каренину, и что вообще он тут делает — непонятно. Как ни странно, через несколько дней подруга мне позвонила: «Режиссёр потом спросил, кто ты. Говорю — артистка с незаконченным образованием» (у меня было за спиной три курса, а потом родилась Аглая, и я ушла в академический отпуск). В общем, продолжает подруга, он сказал: «Артистка? Ну пусть попробуется у нас». Я пришла на пробы, и меня взяли на роль Маши.
Почему ты с таким жаром взялась защищать «Анну Каренину»?
На самом деле это не самое любимое моё произведение Толстого, и я думаю, что выступление в баре было вызвано скорее отчаянием от сидения дома и стирки пелёнок, чем патриотическим порывом. С другой стороны, у меня от «Карениной» всегда было ощущение ничем не оправданных мук, и мужских, и женских. Сейчас легко представить, что если тебе плохо — ты не живёшь и мучаешься, а встаёшь и уходишь. Никто тебя не проклинает, не порицает, никакое общество от тебя не отворачивается. Наверное, по-настоящему нам, современным людям, эту проблему тяжело осознать. Хотя мастерство создания характеров, их точность и тонкость есть в «Анне Карениной», безусловно. Но вхождение в эту светскую канитель для меня всегда было очень муторным, не хотелось туда погружаться. Вот «Войну и мир» я очень люблю. Мне кажется, там во всём и везде, и на поле брани, и на балу, главное мерило происходящего — достоинство и благородство. И воспитание детей, и дом Ростовых, и характер Болконского — всё это про невероятное человеческое внутреннее достоинство, которое, как стержень, держит и определяет твои поступки. Это книга про то, какой и как мне всегда хотелось быть.
Такой стержень воспроизводим другими, нелитературными средствами? Театральные постановки, многочисленные экранизации — работает ли в другом жанровом воплощении «Войны и мира» то, что держит тебя именно в книге?
Настолько сильно — нет, конечно. Когда влюбляешься в книгу, в голове возникают миры её героев. Эти люди для тебя настолько реальны, настолько полны живой кровью, что никакое чужое визуальное решение не может быть равным твоим собственным мирам. Тебе предлагается какой-то вариант, но он никогда не будет трёхмерным. Да, картинка может быть интересной, да, она будет что-то отражать, но в процессе чтения книги ты внутри этой жизни, она течёт у тебя по жилам. Даже если я очень захочу сыграть княжну Марью, я не сыграю её так, как вижу внутренним зрением, читая книгу. Когда я читаю о ней, у меня руки трясутся, а если я надену её костюм — всё равно будет не то и не так. Мне кажется, сильнее литературы нет ничего. Конечно, это не значит, что не надо снимать фильмы и ставить спектакли — у «фоменок» замечательная «Война и мир», просто замечательная. Но чтение — отдельная, другая реальность, которую ничем не заменить.

«Три сестры» в постановке Льва Додина в МДТ — Театре Европы. 2010
Пресс-служба театра
Вернёмся к Чехову, который в твоей карьере занимает много места — «Пьеса без названия», «Три сестры» и «Вишнёвый сад»…
«Пьесу без названия» и «Трёх сестёр» я не репетировала, ввелась в готовые спектакли. «Пьеса без названия» выпускалась задолго до моего прихода в театр: Ира Тычинина, которая великолепно играла Софью, ушла в декрет, и меня ввели, чтобы спектакль не останавливался. Мне была дана некая свобода внутри готового рисунка, возможность привнести своё, что я и постаралась сделать. Сам по себе спектакль был прекрасным и на меня как на зрителя в своё время произвёл сильное впечатление. Очень многослойный: практически все актёры находятся постоянно на сцене, даже самые интимные моменты между героями играются на глазах у всех остальных. Этот особый додинский приём так или иначе используется и в других его постановках. В театре часто бывает, что одни герои ушли, другие вышли, между этими что-то произошло, а те, которые уходили, опять вошли и ничего о произошедшем не знают. Нет, у Додина все всё видят, все всё знают, все всё чувствуют. Такая тонкая-тонкая паутина, сложно переплетённая, музыкальная, абсолютно выверенная. Поэтому входить в «Пьесу без названия» было очень сложно и ответственно — ты входишь в готовый, уже созданный другими мир, пропуская огромный этап самой работы над пьесой.
То есть для актёра дистанция между литературным произведением и спектаклем очень существенна. А для зрителя?
Мне самой как зрителю всегда интереснее прочитать, интереснее знать произведение, а потом его увидеть. Если наш зритель не читал Чехова, значит, будет воспринимать происходящее на сцене с чистого листа и эта история сложится для него именно так, как мы сыграем, как он увидит и услышит. Это не хорошо и не плохо. Если читал, — может, ему будет интереснее, он станет следить именно за тем, чего ждал. Или он уже что-то себе напредставлял, а мы это играем совсем по-другому, тогда он будет с чем-то согласен, а с чем-то — нет.
Что в додинской трактовке Чехова для тебя было самым болезненным?
В «Трёх сёстрах» — дичайшая безысходность, чёрная, кромешная… Этот спектакль тяжело играть и физически, и психологически, он очень-очень безнадёжный. Именно в додинской трактовке: история не про то, как три девушки очень хотели поехать в Москву, но никак не могли собраться, а про то, как люди перестают жить, теряют самоё себя, желание что-то делать, утрачивают веру в возможность счастья, в то, что зажжётся свет в окошке. Просто медленно загибаются. Не зря там появляется страшный вой Лизы Боярской, которая играет Ирину. «В Москву, в Москву!» — воет она, и ты понимаешь: воет не потому, что хочет туда поехать, а от понимания, что с каждым днём шансов на это всё меньше, что Москва никогда не случится.

«Вишнёвый сад» в постановке Льва Додина в МДТ — Театре Европы. 2014
Пресс-служба театра
Это чеховская безнадежность или всё-таки додинская?
Она есть у Чехова, но Лев Абрамович умножает её многократно. Я не участвовала в процессе репетиций, — как и в «Пьесе без названия», ввелась в готовый спектакль, — но была на читке, когда читал сам Додин. Уже тогда мне захотелось повеситься. Когда Лев Абрамович что-то показывает актёрски и, соответственно, когда читает — он невероятно точен в интонациях. Ты уже по модуляциям голоса понимаешь, насколько всё безысходно — я снова и снова повторяю слово, которое у меня всегда с «Тремя сёстрами» связано. Это обязательно три часа слёз, ты просто от них опухаешь: всех очень жалко, но сделать ничего нельзя.
Вы много гастролировали с «Тремя сёстрами» и с «Вишнёвым садом» за границей. Как чеховские интонации воспринимают, к примеру, американцы?
Прекрасно. Я очень люблю играть додинского Чехова за границей, потому что там нет вот этого нашего коленопреклонения: «О господи, это же Чехов! Я сейчас надену чистые туфельки, сяду, достану платочек и буду очень-очень грустно его воспринимать». Такого у них в принципе не бывает, они реагируют непосредственно на текст и на то, что видят. Когда мы играли в Вашингтоне, например, зал просто ржал — не буду подбирать другого слова.
Даже приблизительно не могу предположить, над чем в «Трёх сёстрах» можно ржать.
На самом деле при вот таком незамутнённом взгляде там много смешного. Зритель или привык в театре сидеть тихо и трепетать, или реагирует непосредственно. Когда сёстры снова и снова орут: «В Москву, в Москву!» — и воют, но ничего не меняют, всё глубже увязая в провинциальном существовании, — деятельные американцы видят здесь юмор. И он есть! У Додина вообще много юмора. В «Дяде Ване» няня говорит Астрову: «Может, ты водочки выпьешь?» — а он отвечает: «Нет. Я не каждый день водку пью» — и в зале, веришь ли, хохот стоит. Русский зритель никогда не будет смеяться над этим — что тут такого? Ну нормально, бывает, что не каждый день. Американцев же это дико смешит. Мы воспринимаем Чехова как бы изнутри, а для них из-за перевода текст находится на некоторой дистанции, и юмор схватывается легче. Бывает, что смех — защитная реакция: не обязательно же всегда рыдать, иногда легче засмеяться, но это будет горький смех.
У американцев он именно такой? По твоему описанию — непохоже.
Мне кажется — именно такой. Американский зритель на самом деле бывает очень умным и жестоким. Точнее, он просто жёстче нашего. Там, где наш зритель скажет: «Не смейтесь, человеку плохо, он страдает», — американец ответит: «Ну и что? Он смешно страдает. Это вообще смешно — как вы, русские, страдаете из-за вашего вишнёвого сада».

Кадр из фильма «Дама пик», режиссёр Павел Лунгин. Россия, 2016
Давай вернёмся к кино. Как «Дама пик» Павла Лунгина для тебя связана с пушкинской «Пиковой дамой», если такая связь вообще существует?
Мне кажется, Павел Семёнович создал историю не столько о моей героине, сколько о жизни самого этого произведения. Жизни, вокруг которой своя мистика, свои интриги, свои страсти. О том, как это произведение влияет на страстных, амбициозных, жадных людей. Я, конечно, перечитала Пушкина перед съёмками, хотя понимала, что здесь нет никакого прямого переноса: я не играю безумную старуху, моего персонажа в «Пиковой даме» нет. Но страсть и эмоция пушкинского текста были невероятно важны: вот эта готовность сдохнуть, но получить то, что хочешь, жажда жить так, как ты хочешь, готовность добиваться этого всеми праведными и неправедными путями, и уж если не получается — лучше умереть, потому что жить так, как мы не хотим, мы не будем.
В сериале «Есенин» ты играла Галину Бениславскую. Хорошо помню ту вашу сцену с Безруковым, где он читает «Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен». Тебе нравится, как поэзия живёт на экране?
Если честно, не люблю чтения стихов ни со сцены, ни с экрана. Но есть воспоминание, которое, думаю, останется со мной на всю жизнь. В институте шло занятие по сценической речи, мы носились, прыгали, что-то кричали. И вдруг Валерий Николаевич Галендеев сказал нам: «Лягте на пол, закройте глаза» — и стал читать Бродского, «Осенний крик ястреба». Вот рассказываю об этом сейчас, двадцать с лишним лет спустя, и мурашки по коже. Не могу описать своё тогдашнее ощущение — я как будто вошла в транс. Звук голоса, смысл текста — от этого сочетания я просто улетела. Летела рядом с ястребом, всё это видела — и дым из труб, и ребёнка, замершего у окна, и женщину на крыльце. Никакая сцена, никакой экран не смогут подарить такого личного погружения в настоящую поэзию.

Кадр из сериала «Есенин», режиссёр Игорь Зайцев. Россия, 2005
В той театральной школе, где ценится слово, способность Галендеева превратить монолог в зрелище просто бесценна. Ведь это у него родилась идея спектакля «Неизвестный друг»? Как складывалась ваша работа с текстом Бунина?
Валерий Николаевич — совершенно уникальный человек. Жаль, что у него редко берут интервью, что про него не снимают фильмы: вот с кем невероятно интересно говорить про взаимодействие театра и текста. Он просто кладезь мысли и знаний и при этом исключительный собеседник. Да, спектакль по Бунину был его идеей. Изначально он выбрал два рассказа: я должна была читать «Неизвестного друга», а Игорь Юрьевич Иванов — «Окаянные дни». Потом что-то не сложилось, и мы эту работу оставили. Через несколько лет на юбилее Галендеева его ученики читали тексты, над которыми с ним работали. Я вспомнила «Неизвестного друга» и прочла несколько писем оттуда. Первый раз сделала это на зрителя и, с одной стороны, почувствовала довольно яркую реакцию зала, с другой — оказалось, что эта история никуда не ушла, жила во мне всё это время, не вытекая. Потом мы с пианисткой Полиной Осетинской решили сделать что-то вместе, обратились к Валерию Николаевичу, он согласился и создал с нами этот спектакль.

«Неизвестный друг», режиссёр Валерий Галендеев. 2019

«Неизвестный друг», режиссёр Валерий Галендеев. 2019
Я смотрела «Неизвестного друга» дважды, но так и не смогла понять, почему на зрителей, включая меня, так мощно воздействует практически голый текст. И музыка, конечно: «Болезнь куклы» Чайковского, и Карманов, и Рахманинов, и Дебюсси. Но прежде всего текст: женщина, явно не очень счастливая, пишет письма неизвестно кому. Отчего же мы плачем? Как слово материализуется в эмоцию?
Музыку подбирала Полина, а Валерий Николаевич накладывал её на существующую структуру текста, я имею в виду — структуру эмоциональную. Это ведь чтецко-музыкальная композиция, не совсем спектакль. Такая странная форма. В какой-то момент Валерий Николаевич предположил, что моя героиня больна: первый прогон я играла в инвалидном кресле. Потом мы от кресла отказались, но тем не менее та попытка дала мне что-то важное: степень отчаяния, необходимость этой связи, болезненное ожидание ответа — всё максимально обострилось. Когда ты читаешь бунинский текст, ты поначалу воспринимаешь ситуацию очень буквально: женщина пишет автору книги, которая ей понравилась. Она пишет, он не отвечает. И вдруг откуда-то проявляется её невероятная требовательность, её позиция, и женская, и человеческая — она не снизу, она равная ему, она не просительница.
Возникает ощущение, что он ей действительно что-то должен.
Да-да, причём должен то, что жизненно необходимо. Думаю, именно поэтому Валерий Николаевич предположил, что героиня неизлечимо больна: ей остались считаные дни, поэтому ответ настолько важен, что под конец она просто сходит с ума. Она ведь проживает с ним жизнь, понимаешь? Фактически — супружескую жизнь, независимо от того, что он существует только в её воображении: она его никогда не видела, не знает, как этот писатель выглядит — он не присылает своей фотографии. Вот это Валерий Николаевич Галендеев открыл мне, помог поймать. Галендеев и, конечно, гений Бунина. Удивительно, что тончайшие женские переживания так прочувствованы и раскрыты мужчинами.
Закончим традиционным для нашей рубрики вопросом: на какую книгу похожа твоя жизнь?
На «Алису в Стране чудес», конечно же.