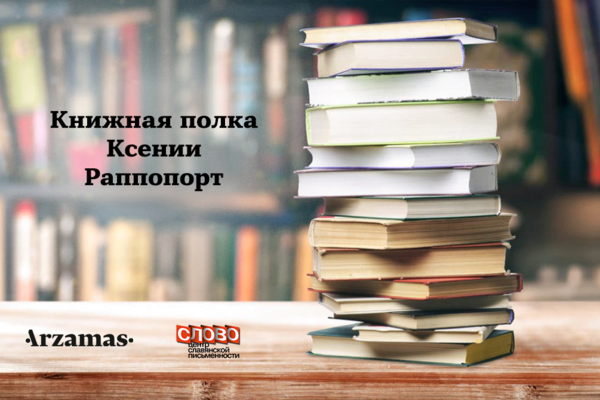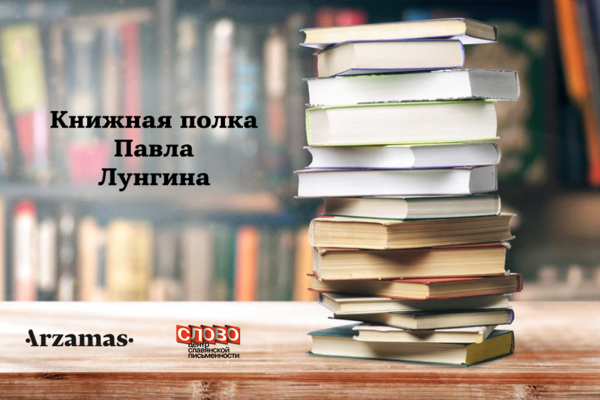Режиссер Павел Чухрай — о предыстории фильма «Холодное танго»
22 июня в прокат выходит фильм Павла Чухрая «Холодное танго»: о войне, которая настигает людей спустя годы. О том, как разорвать порочный круг насилия, «Огонек» побеседовал с режиссером.

Человеческие отношения никогда не попадают в такт с государственной машиной (в главных ролях — Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов, кадр из фильма «Холодное танго»)
Фото: WDSSPR
Фильм Павла Чухрая «Холодное танго» — вольная экранизация повести Эфраима Севелы «Продай твою мать». Судьба свела литовскую девушку Лайму (Юлия Пересильд) и еврейского юношу Макса (Риналь Мухаметов) еще во время войны; он чудом избежал концлагеря, ее отец сотрудничает с нацистами. Спустя годы они опять встретятся, но жизнь только внешне кажется спокойной: взаимная ненависть продолжает жить, питаясь прошлым и воспроизводя саму себя.
— Предваряя вручение вам приза «За честь, достоинство и преданность кинематографу», президент «Кинотавра» Александр Роднянский назвал ваше творчество «голосом честным, бескомпромиссным и талантливым». Довольно обязывающая оценка — тяжело соответствовать?
— Я благодарен фестивалю за эту высокую оценку. Такими категориями я, конечно, не мыслю и себя не оцениваю. Просто у меня есть позиция — жизненная, не киношная. Она выражается на экране в одном случае более ясно, в другом — менее, но это всегда позиция гуманистическая. Как и вся культура, на которой я вырос,— и мировая, и европейская,— где в центре всегда человек, его жизнь и попытки остаться человеком, по возможности не идя на компромиссы. В реальной жизни это всегда трудно. Особенно на фоне исторической памяти о сталинском режиме, при котором слова и убеждения часто стоили людям жизни. Когда я рос, жизнью уже не расплачивались, но все равно платить приходилось — успехом, возможностью реализоваться. Нам уже однажды задавали вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Если такой окрик снова прозвучит сверху, обществу выбора не останется. Точнее, надо будет выбирать между убийцами и наперсточниками. И я боюсь, точнее, мне очень не хочется, чтобы это время пришло.
— «Кинотавр» открылся вашим фильмом «Холодное танго». Его сюжет как-то связан с этими опасениями?
— В том числе. По-моему, сегодня нет темы актуальнее, чем непринятие людьми друг друга — противостояние национальное, социальное, религиозное. Страна ожесточилась, идет сильнейшее давление антикультуры, мракобесия. Я понимаю, что власть неоднородна, что там, внутри, есть люди, по-разному относящиеся к происходящему. Тем не менее процесс, о котором я говорю, идет с двух сторон: часть общества готова двигаться к радикализму, к насилию. Она, эта часть, ощущает поддержку властных структур, неким образом показывающих, что они «за». И в своем фильме я рассказываю, как люди пытаются сохранить свою любовь в то время, как их сознанием и жизнью манипулируют политические системы. Вот, наверное, главное в этой истории. Еще один важный момент. Официальные структуры борются за историческую правду, а нас, кинематографистов, периодически обвиняют в ее искажении. Но выясняется, что о некоторых событиях люди не знают вообще ничего. Мне пришлось поставить в начале и в конце картины титры — как в научно-популярном кино.
— Эти титры имеют абсолютно ликбезовскую функцию.
— Именно. Изначально они не планировались. Но когда молодые актеры, которые у меня снимались, стали задавать вопросы о происходящем в фильме, я понял, что объяснения необходимы — мало кто знает, что советские войска в 1940 году вошли в Прибалтику. Для огромного количества людей это шок: «А что мы там делали до войны?» И титры в моем фильме — это попытка донести информацию в простой форме. Потому что зритель должен знать правду. Хотя, повторюсь, в художественном кино странно так делать — это немножечко поддавки.
— Идея «Холодного танго» связана с проектом Спилберга о холокосте, в рамках которого вы сняли фильм «Дети из бездны»?
— Та картина для меня была абсолютно изматывающим психологическим опытом. Я был уверен, что никогда не вернусь к этой теме. И «Холодное танго» все-таки не рассказывает впрямую о холокосте. Основная сюжетная линия взята из книги Эфраима Севелы «Продай твою мать». Знаете, что интересно? Ведь Севела изначально — сценарист, это потом он перешел на повести и романы. Так вот, Севела и мой отец в 1960-е годы вместе писали сценарий. Это была история о двух летчиках, финском и русском. Всю войну они ведут бесконечную дуэль — сначала заочную, а потом реальную, в воздухе. И вот оба падают где-то в тундре. Враги. Пытаются выжить. Постепенно между ними возникает странное партнерство, они вынуждены помогать друг другу. Много дней то идут, то ползут к людям — со страхом, потому что не знают, на чьей территории упали. Каждый понимает, что один из них окажется в лучшем случае пленным, а скорее всего будет убит. И вот наконец они видят какое-то жилье. Навстречу выходит мальчик с козой и говорит: «А война кончилась».
— Фильм сняли?
— Нет. Авторов обвинили в пацифизме, сценарий так и не состоялся. Но пока они над ним работали, Севела много времени проводил у нас дома. Я был мальчишкой лет 12-13 и отлично помню эти встречи. Севела был очень хорошим рассказчиком, и мы много слышали от него о военном и послевоенном времени в Литве: как шла коллективизация, как раскулачивали крестьян, как боролись с «лесными братьями». Какие-то вещи в его книге явно биографические. И я сделал главного героя оперативником, потому что на самом деле Севела был не гармонистом, как он выводит себя в повести, а оперативником.
— Три цифры в финальных титрах — число погибших в Литве евреев, литовцев и советских солдат — буквально оглушают. Наверное, это фильм о том, что государство — или колесо истории, кому как удобнее,— сделало врагами всех: все виноваты и никто не виноват.
— Это фильм о катастрофе XX века, о насилии государств над своими и чужими народами. О невозможности договориться. Об отсутствии правых и виноватых, о патовой ситуации, когда ты неизбежно оказываешься против кого-то.
— В финальной сцене героя убивают те, с кем он боролся. До этого власть, которую он представляет, отнимает у него любимую женщину и ребенка. И вот он лежит, всем чужой: русским, евреям, власти, стране. Может, это фильм в том числе о многовековой еврейской отверженности?
— Главный герой мог быть не евреем, а русским, литовцем или молдаванином. В тех обстоятельствах это непринципиально: кем бы ты ни был, всегда найдутся те, кому ты враждебен. Но в каком-то смысле ваш вопрос очень точен — мы хотели назвать фильм «Чужой». К сожалению, есть чуть ли не десяток картин с таким названием. Был еще вариант названия «Угольщик»: помните, один из героев «просто продавал уголь», но как-то так получилось, что стал работать в зондеркоманде. Так что фильм в том числе и об этом — о компромиссе и расплате за него.
— Вам самому приходилось идти на компромиссы?
— Мне кажется, никогда. Я мог не сделать картину о том, что хочу. Мог чего-то недоговорить. Но мои фильмы, их можно считать талантливыми или неталантливыми, думаю, всегда честные. А тема компромисса меня волнует, потому что она проходит через всю жизнь. Мы ведь ничего не умеем, кроме как писать сценарии и снимать картины. При этом надо жить, зарабатывать, содержать семью. Я смотрю на своих друзей и коллег, которые, помыкавшись, начинают говорить, писать и снимать не то, что думают. И бросить камень я в них не хочу, потому что… вот такая жизнь. Осуждать других проще всего, поэтому я всегда пытаюсь разобраться, найти какую-то свою правду у человека, попробовать его понять. Я знаю, что многие вели бы себя иначе, если бы не обстановка в стране. При этом винить только власть нельзя: она делает с обществом то, что общество позволяет с собой делать.
— Почему, на ваш взгляд, позволяет?
— Все зависит от культурного слоя — а он в стране такой… в миллиметр толщиной. Пленочка. Она была пленкой и в ХIХ веке. «Страшно далеки они от народа» — это же правда. Те далекие от народа люди появились после Петра I, когда страну за голову вытащили из болота и бросили в Европу. И они дали мощный культурный импульс! Но безграмотная страна продолжала жить по-своему. И сегодня под тоненьким культурным слоем — океан невежества. А еще — неумение выстроить свою жизнь, неумение социально договориться: проще взять топор и зарубить соседа. И это состояние дикости никого не удивляет. Я вспомнил опрос «Левада-центра» о том, что вокруг чего вращается: Земля вокруг Солнца или наоборот. Больше трети опрошенных в нашей стране считают, что Солнце вращается вокруг Земли. И с каждым годом эта цифра растет. Какая при такой дикости может быть демократия? Как, не зная базовых вещей, двигаться вперед?
— Поэтому в своих фильмах вы часто оглядываетесь назад?
— Когда мне задают вопрос: «Почему вы снимаете ретро?», я всегда теряюсь. Моя жизнь — это и ХIХ век, и ХХ, и то, что происходит сейчас Мне кажется, что современный человек из-за вот этой наваливающейся массовой безграмотности сузил рамки своего мировосприятия до сегодняшнего дня, сиюминутной «бытовухи»: вот он попил чаю с женой, вот проехал на метро, вот обманул начальника, купил колбасы, пришел домой, посмотрел пятиминутку новостей и лег спать. Ну и получил немножечко мифов, экзотики — князь Владимир, который был сначала не очень наш, потом оказался наш, «эффективные менеджеры» Иван Грозный, Сталин, Берия… Народ смотрит и кивает: да, они прятались за палачей, а сами-то были вполне ничего — за страну, за все хорошее. И вот мне говорят: вы вроде не про это рассказываете, но тоже оглядываетесь назад. Нынешний обыватель удивится, если сказать, что «Война и мир» для Толстого тоже был ретророманом: Толстой не жил во время описываемых событий. Тогда и «Доктор Живаго», и «Тихий Дон» — тоже ретро.
— Как расширить это мировосприятие?
— Ничем, кроме культуры, ничем. В ХIХ веке ребята, которые хватались за бомбы, смеялись над очкариками, говорящими о просвещении народа: «Что вы несете, какое просвещение? Революция — и все встанет на место!» Но нет, только просвещение может что-то изменить.
— На нынешнем «Кинотавре» почти две трети конкурсных фильмов сняты без государственной поддержки. Может быть, это и есть обнадеживающий знак, индикатор утолщения той самой культурной пленки? Частные деньги вкладываются в кино, в просвещение.
— Конечно, замечательно, что кто-то, кроме государства, дает деньги на кино. Тем более что деньги государство, как правило, выделяет совсем небольшие. Да, хорошему фильму, не всегда нужен гигантский бюджет. Иногда прекрасное кино можно снять на коленке, и мы знаем такие примеры. Но индустрию — кинематографическую — на коленке не сделаешь, а она должна быть, иначе это все превращается в такие… домашние радости, которые ни зритель, ни большой мир не видит. Прокатчики говорят: «Ну выпустим мы этот фильм на экраны — и сколько денег он соберет?» Только богатая индустрия может позволить себе делать картины, пусть не собирающие кассу, но нужные для культуры, говорящие о важных вещах.
— Одна из главных функций «Кинотавра» — дать трибуну именно такому кино.
— Конечно. И здесь очень важна позиция устроителей. Я не раз входил в жюри «Кинотавра», был и его председателем — никогда никто из руководства фестиваля не пытался хотя бы намекнуть на то, чтобы определенный фильм попал в конкурс или тем более получил награду. Мы давали призы картинам спорным, которые могли потом официально, в прокате никак не прозвучать, но это всегда были призы за искусство. В таком смысле «Кинотавр» — по-настоящему свободная и честная, чистая площадка и, я надеюсь, такой останется. Площадка, которая дала и продолжает давать старт прекрасным режиссерам. Именно потому, что у нас сейчас в кинематографе дела не очень хороши, фестивали для индустрии очень важны. Какое-то, хоть и небольшое, количество людей увидит картины, которые не факт что попадут на широкий экран. Это и есть в том числе наращивание культурного слоя. Сейчас у некоторых бизнесменов — не хочу называть фамилии, чтобы не сглазить,— есть идея создать сеть кинотеатров, в которой будут идти вот такие российские фильмы, даже не принося больших кассовых сборов. И это прекрасно, потому что их будет видеть не только «элитный» зритель. Чтобы был молодому поколению повод размышлять — это и есть утолщение культурного слоя, духовная жизнь.