Один из самых востребованных театральных режиссёров в России Максим Диденко регулярно обращается к русской классике: в его послужном списке — постановки «Левши» и «Идиота», «Конармии» и «Собачьего сердца». Режиссёр работает и с современной классикой, предлагая интерпретации Пелевина и Сорокина. Ольга Ципенюк поговорила с Диденко о том, как Пелевин связан с Бабелем, о вечной актуальности булгаковской сатиры, о женщине-подсолнухе и маске мёртвой свиньи — а ещё о том, нужна ли театральному зрителю книга.

Давайте поговорим о новой жизни классических текстов на театральной сцене. Вы как-то рассказывали, что прочли «Идиота» девять раз, прежде чем взялись его ставить…
Я впервые прочёл его в 14 лет, он был тогда в школьной программе. Сидел на какой-нибудь алгебре и под партой читал, настолько книга меня увлекла.
Это противоречит расхожей сентенции о том, что школа отвращает от классической литературы.
Мне пришлось поменять пять школ, и только последняя, 139-я гуманитарная гимназия в Омске, оказалась интересной. Именно там у меня было два отличных педагога: по мировой художественной культуре и по литературе. Учительница литературы рассказывала об авторах как о живых, понятных людях; не диктовала, что означает то или иное произведение, а устраивала дискуссии; на её уроках мы смотрели фильмы и писали на них рецензии.
Визуализация — лучший путь для восприятия литературы?
Ну отчего же? Просто чтение — самый простой и очевидный путь соединения с автором. Сегодня, в эпоху клипового сознания, визуальный элемент может сильно облегчить это взаимодействие. Конечно, непосредственный контакт с текстом — полезная штука, и я счастлив, что своего старшего сына пристрастил к чтению. Ещё лет пять-шесть назад он делал это не очень охотно, а теперь читает много.
Как вы этого добились?
Стал рассказывать о книгах, покупать их и дарить с какими-то комментариями.
Миллионы родителей делают то же самое, но не всем это помогает.
Он много ходил в театр на мои спектакли.
То есть без визуализации не обошлось.
Видите ли, театр ведь не только смотрение, это в первую очередь присутствие в особой среде, тотальная коммуникация, задействующая все органы восприятия.

Пресс-служба
Литература в этом смысле имеет меньше, скажем так, площади соприкосновения с читателем?
Книга в большей степени герметичная штука, любой текст — это шифр. По-моему, Бродский писал, что книгу, как любое музыкальное произведение, можно прочесть талантливо, а можно неталантливо. Чтобы читать талантливо, нужно развивать это важнейшее умение, способность подключиться к тексту, почуять его. Как он тренируется? Честно говоря, не знаю. Я читаю с самого детства, мы всегда жили среди книг. Хорошо помню, как в бабушкином доме я лет в пять-шесть строил из книг и журналов целые города: «Театр», «Искусство кино», «Современная драматургия», «Новый мир», «Знамя» складывались в большие стопки-небоскрёбы, вокруг них ездили машины, двигались человечки. Книг в доме было очень много, и даже если мне никто ничего не объяснял, я их так или иначе рассматривал: сначала листал картинки, лет с шести стал читать — это было бесконечное приключение.
Несостоявшаяся девятиэтажная постановка Данте — продолжение детского приключения?
Это было в пору панк-юности, когда я занимался иммерсивным театром. Мы сотрудничали с украинским театром «ДАХ», и его художественный руководитель Влад Троицкий предложил поставить «Божественную комедию».
Вы до этого её читали?
Скажем так, просматривал. Точнее, знал, что она существует, но чтобы целиком прочесть, не хватило ни усидчивости, ни какой-то глубины. А тогда наутро после встречи Нового года мы поехали в Карпаты, засели в летнем охотничьем домике и стали разбирать текст. Меня по-настоящему потрясла густота визуальных образов и гиперссылок, мне нравилось находить пересечения с современностью, смотреть, как текст отзывается в сегодняшнем дне. Конечно, «Ад» — самая привлекательная часть этого произведения.
В результате вы были в маске мёртвой свиньи, в цирке были заказаны слоновьи экскременты…
Да-да, мы выступали с таким drum and bass коллективом, и всё это было чем-то средним между вечеринкой и диковатым перформансом.
А потом была «Шинель» — и ваш Акакий Акакиевич был женщиной…
Точно.

Пресс-служба

Пресс-служба
Сегодня после успешных кинопремьер и выхода сериалов книги, которые легли в их основу, часто печатаются огромными тиражами. Театральный спектакль тоже должен подталкивать зрителя к книге?
«Должен» — не совсем правильное слово. Хорошо, когда это происходит. К примеру, я счастлив, когда после моего спектакля люди перечитывают «Идиота». Мне так и пишут: «Захотелось перечитать», или я вижу посты в инстаграме или в фейсбуке, где об этом говорят. Но как задачу я это, разумеется, в голове никогда не держу.
Когда депутат Милонов после премьеры «Конармии» написал, что режиссёр спектакля — дегенерат, а артисты — мутанты, вы как отреагировали?
Смешно было.
Бубны, вопли, рэп о загубленном коне, что там ещё у вас было — малиновые бородавки? Музыка текста, колдовская речь Бабеля послужила просто трамплином к шаманским пляскам?
Бородавки, точно! Малиновые, как редиска в мае. Совсем нет, не трамплином. Бабелевский текст — сама ткань моей «Конармии». Он поётся, что для прозаических текстов явление нечастое. Я прочел Бабеля, будучи студентом Театрального института в Санкт-Петербурге, и сразу предложил своим товарищам сделать по одному из рассказов этюд. Товарищи мне отказали, потому что не увидели там никакого сюжета.
Да, сюжеты у Бабеля неочевидные, но именно в тот момент во мне созрело острое желание этот текст сделать. Было непонятно — как, но я чувствовал, что именно словесная вязь меня невероятно увлекает. Она каким-то непостижимым образом передавала ясную, страшную и в то же время очень красивую правду о войне. Я долго носил в себе это желание и много кому предлагал попробовать, но руководители театров один за другим отказывали, не видя в этом ничего интересного. А Брусникин увидел и согласился. Благодаря его доверию ко мне всё и состоялось. Репетировали мы в экспедиции — поехали в Комарово, в Дом отдыха творческих работников. Две недели исследовали природу текста, студенты каждый вечер устраивали показы. Чем дальше мы погружались в текст, тем более дикими становились показы.
Как магия этой, пользуясь вашим определением, словесной вязи Бабеля трансформировалась в дикость визуального воплощения? Точнее, зачем?
Тексты Бабеля ведь ужасные, точнее — очень радикальные. В них происходят страшные вещи, описывается совершенно босхианская картина смерти. А вы спрашиваете, откуда у меня такие дикие визуальные образы.

Ира Полярная/пресс-служба

Катя Краева/Пресс-служба

Катя Краева/Пресс-служба
Если написано так страшно, что дальше некуда — надо ли двигаться в это «дальше»?
Театральное произведение не просто интерпретирует текст, оно своими средствами создаёт отдельную вселенную, где текст на разных театральных направлениях работает по-разному. Допустим, у Вырыпаева это абсолютный минимализм: текст царит на сцене почти сам по себе. Мне же нравится другой театр, я выбираю дионисийскую линию, мистериальную. Использую текст как карту местности: он не является этой местностью, а лишь её описанием, позволяет воссоздать местность иными средствами, испытать опыт, отличный от опыта чтения. И я предоставляю людям возможность этого нового опыта — неважно, подготовлен мой зритель предварительным прочтением текста или нет.
Подготовленных недостаточно, чтобы заполнить зал?
У вас есть только тот зритель, который есть, и если вам надо заполнить зал на восемьсот человек, будьте готовы к тому, что бо́льшая часть людей не будет подготовлена. Мы с вами не знаем и никогда не узнаем, как их подготовить.
Спектакль «Хармс. Мыр», который вы ставили в «Гоголь-центре», — ещё один опыт использования сложной текстовой основы. Что последовательность этих динамичных шутовских сценок добавила к ироничному, вывернутому наизнанку миру Хармса? Допускаете ли вы, что зритель будет сравнивать, скажем так, два абсурда — и сравнение будет не в вашу пользу?
Мне кажется, тут бессмысленно соревноваться: всякое произведение нужно судить по тем законам, которые оно само для себя создаёт. Зритель ничего не должен сравнивать, он абсолютно свободен воспринимать происходящее на сцене как угодно и быть, повторюсь, хоть подготовленным, хоть неподготовленным. Художники — свободные люди. Вот Владимир Сорокин, например, создал серию картин про Достоевского, в частности «Достоевский в бане». Далеко это от личности Достоевского и его художественного мира? Ответа нет. Вообще категории «далеко» и «близко» находятся скорее на территории науки, которая пытается во всё привнести точность. Искусство же прекрасно как раз своей неизмеримостью. Его прелесть и польза в том, что оно даёт больше свободы, нежели наука.

Раз уж вы упомянули Достоевского, логично вернуться к «Идиоту», с которого начался наш разговор. Финальная сцена романа давно разошлась на шаблоны школьных сочинений. Но идущее вразрез со всеми шаблонами сценическое решение в виде клоунов, обнимающихся над гробом Настасьи Филипповны, — по-вашему, оптимальный способ взаимодействия с классической книгой?
Достоевский — мой любимый русский автор, «Идиот» — мой любимый роман. Всё, что со мной происходит, вырастает из взаимодействия с реальностью, но не потому, что я с чем-то борюсь, а потому, что я что-то люблю. При этом любовь моя достаточно безответственная, но не безответная: книга, которую я люблю, отвечает мне взаимностью.
В чём она проявляется?
В том, что спектакль «Идиот» имел некоторый успех. Значит, материал как-то пророс сквозь режиссёрское и актёрское решение. Успех — это не когда критики похвалили, успех — когда полный зал.
Вы различаете в этом смысле успех и моду? Вы же модный режиссёр.
Определение «модный» для меня какое-то неочевидное, честно. Да, так обо мне говорят, хотя я не знаю, что именно это означает.
Думаю, в случае с «Идиотом» это прежде всего означает, что в противовес непростой прозе Достоевского зритель ждёт от вас удобоваримого яркого действа. В том числе тот, кто романа не читал.
Мы опять возвращаемся к подготовленности зрителя. Читал, не читал — это совершенно неважно. Вот я прочитал роман «Идиот» в 14 лет, и что? Был я к этому подготовлен? Мне кажется, вообще никак. А вот мой спектакль, может быть, подготовит зрителя к тому, чтобы прочитать наконец-то эту книгу, хотя в школе её многие не любили: ни один мой одноклассник не дочитал «Идиота» до конца.

Ира Полярная/пресс-служба
Когда в вашем спектакле Сталин с грузинским акцентом читает «На меня наставлен сумрак ночи…» — зал смеётся. Вы такой реакции ожидали?
Смеётся, да? Мне не смешно, это вообще не задумывалось как шутка. Нам ведь родственники Бориса Леонидовича Пастернака запретили, чтобы Сталин читал это стихотворение.
Вы провоцировали эту ситуацию?
Нет, мне, наоборот, казалось, что это очень пронзительно. У них же, у Пастернака со Сталиным, были сложные, многоплановые отношения. Да, понятно, что Сталин упырь, убийца детей и так далее, но он был неоднозначной фигурой, и мне было важно эту неоднозначность как-то маркировать — не для кого-то, а для себя.
Вы меня пугаете. Скажите ещё — «эффективный менеджер».
Дело не в этом. Он просто был таким… как бы это сформулировать… Легко сказать «плохой», «хороший», «эффективный», «неэффективный», но сам по себе факт, что он правил так долго и люди так к нему относились, нельзя отрицать. Моя бабушка, например, его любила, плакала, когда он умер, и до своей смерти считала великим. Бабушка — очень хороший человек, один из самых добрых людей, которых я встречал на этой планете, и закрывать на это глаза мне неинтересно. И просто повторять, что вот Сталин плохой и убийца, тоже неинтересно. Интересно понять, почему русская реальность того времени так выглядела, так была сконструирована. Почему это работало? Почему такие прекрасные люди, как моя бабушка, его любили?
Вы считаете, что чтение Сталиным пастернаковского «Гамлета» приближает нас к ответам на эти вопросы?
Да.
Каким образом?
Он считал себя спасителем земли русской, видел это как миссию, был уверен, что его действия — благо для народа и страны. Тем не менее у меня в спектакле маленький мальчик прыгает на крышке его гроба, запирая Сталина в аду.
Вы не боялись, что тот самый неподготовленный зритель, не читавший не только Достоевского, но и Пастернака, воспримет эту сцену как легитимацию Сталина?
Видимо, наследники Пастернака и увидели то, о чём вы говорите. Я подумал, что для них это тонкий, ранящий момент, и согласился с их запретом. Хотя вот недавно я был на оратории Десятникова «Зима священная. 1949», которая написана по учебнику английского языка 1949 года. Великая вещь, абсолютно. Так вот, там слово «Сталин» пропевается некоторое количество раз с очень торжественной, иногда пафосной, а иногда проникновенной музыкальной интонацией. Что тоже в каком-то смысле воплощает энергию восприятия этого имени и этой фигуры в то время или в контексте русского исторического сознания. Просто есть дидактические способы описания реальности, а есть поэтические. И в данном случае это лишь поэтический способ, который позволяет создать широту, палитру, некоторое количество интерпретаций — в противовес фейсбучной дидактике, которая делит мир на хорошее и плохое, понятное и непонятное, годное и негодное. Дидактика очень упрощает наше мировосприятие. Мне кажется, что давая Сталину прочесть это стихотворение, я попытался описать реальность несколько более сложно, чем делить её на чёрно-белое в терминах «кровавый упырь» и «эффективный менеджер», понимаете? Допуская сложное описание реальности, мы можем что-то большее понять о нашем мире — не навешивая ярлыки, а пытаясь разобраться.
Спустя недолгое время после Достоевского вы решили разобраться с Виктором Пелевиным. Почему именно «Чапаев и Пустота»?
Я до сих пор считаю «Чапаева и Пустоту» лучшим его романом. Что касается выбора текста, именно после Бабеля мне было важно это сделать: в моём восприятии «Конармия» и «Чапаев и Пустота» — дилогия. Оба они, и Бабель и Пелевин, очень поэтически описывают феномен революции в России: не дидактически, а именно поэтически.
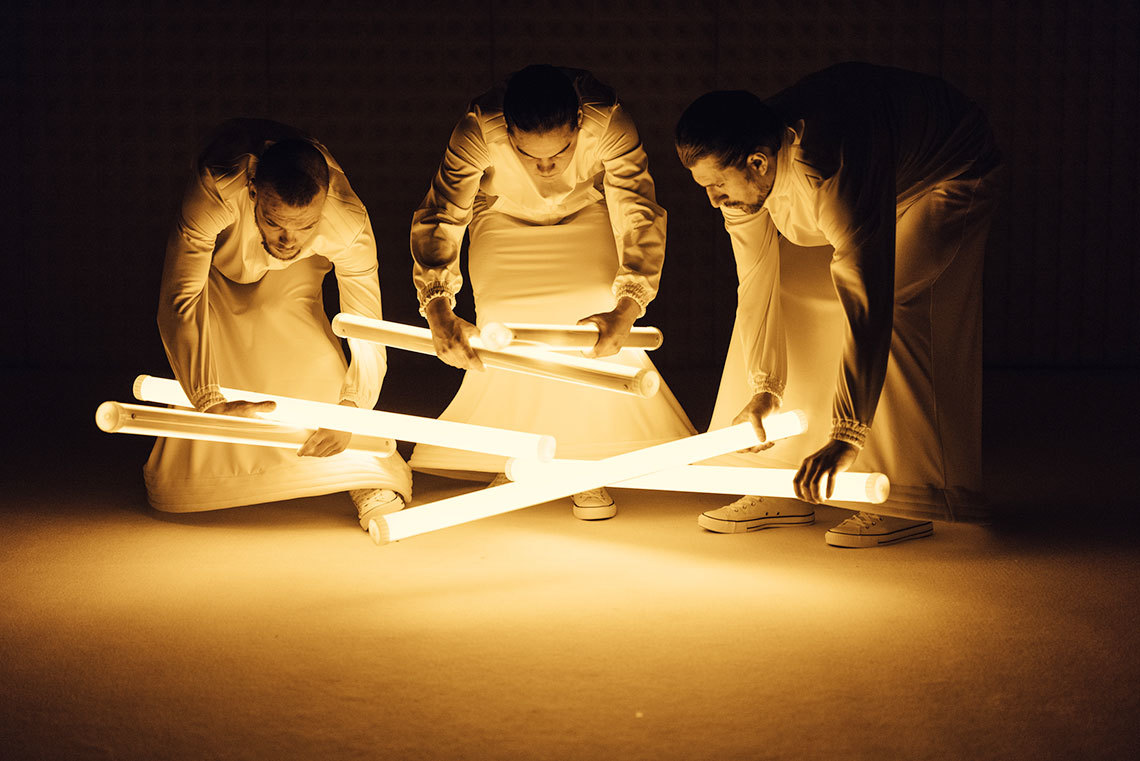
Пресс-служба

Пресс-служба
Мы впервые встречаемся там с поэзией Пелевина — не ёрнической, не пародийной, а вполне настоящей. Вы же превратили его стихи в песни на музыку своего постоянного соавтора, апологета «топорного арт-рока» Ивана Кушнира. Что-то известно об отношении автора к этой метаморфозе?
Мне важно было получить одобрение Пелевина, и я послал ему свой замысел. Он его «заапрувил». Я бы и Достоевскому написал, будь он жив.
Поговорим про «Собачье сердце», знакомство с которым для многих началось с фильма Владимира Бортко. В вашем спектакле мы смотрим на происходящее глазами Шарикова, и профессор Преображенский мне нравится гораздо меньше, чем обаятельный герой Евгения Евстигнеева.
Он не самый симпатичный человек, это правда. Постоянно жующий сибарит и демагог.
Когда они с Борменталем бесконечно обсуждали меню обеда, их спокойствие, их буржуазный быт стали меня раздражать, и я вдруг поймала себя на том, что раздражаюсь точно так же, как Швондер.
Слушайте, это же замечательно! Значит, я не просто использую литературу, а книга для меня — только предлог рассмотреть какую-то тему глазами сегодняшнего человека. Ведь литературное произведение не существует герметично, текст — не вещь внутри себя. Он живёт в контексте нашего времени, мы, читатели, взаимодействуем с ним сегодня — неважно, когда он был написан. Текст может отзываться в нас только здесь и сейчас, ведь другой реальности у нас нет. Смотрим в книгу, но всё происходит в нашей голове — мы воплощаем её в своём воображении, в своём сознании.
Это вы воплощаете. А дальше — вопрос: подключусь я как зритель или нет.
Тут вопрос не ко мне, а к вам.
Вам совсем всё равно?
Не то чтобы всё равно, но я никак не могу на это повлиять.

Ира Полярная/Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба
Я безусловно подключилась к спектаклю «Девушка и смерть» о судьбе актрисы Валентины Караваевой, но не нашла в нём практически никакой связи с поэмой Горького — кроме того факта, что героиня умерла.
Это драматург Валерий Печейкин придумал название. Вообще, я вспоминаю работу над «Девушкой и смертью» как очень странный репетиционный процесс. Мы были сосредоточены на судьбе героини, которую играла Алиса Хазанова. Она очень много привнесла в этот спектакль: у неё тогда случилась семейная трагедия, ушёл из жизни близкий человек, и тема смерти в ней очень отзывалась. А я, наоборот, всё никак не мог найти какого-то хода, чтобы подключиться к этой истории. В результате получилось что-то вроде спиритического сеанса связи с душой Караваевой. Для меня никакой текстовой основы не было — только пьеса Печейкина, которую он переписывал раза три. Наверное, Горький там присутствовал, но мне никто этого не подсказал, я просто пытался расшифровать имеющееся. Может быть, это упущение — сейчас, говоря с вами, я думаю, что было бы интересно текст Горького туда как-то вместить.
Когда вы решили ставить «Норму», Владимир Сорокин сказал: «Делайте что хотите, только ничего не дописывайте».
Да, но я ему очень подробно описал, что мы замыслили. Потом у нас был двухчасовой разговор, и он никак не прокомментировал работу с текстом, просто сказал, что «Норма» — нормальный спектакль. А что он мог ещё сказать, правда же? И дополнил, что это лучшее театральное действие, которое когда-либо было поставлено по его тексту. Не думаю, что он сказал так просто из вежливости. Чего ему не хватило в этом спектакле, так это юмора. Он так и сформулировал: «Мало хохота».
Хотя это одно из самых страшных его произведений.
Оно вообще несмешное, правда же? Но ему хохота оказалось мало. На самом деле, очень нелегко оказалось найти сценическое решение, чтобы всё это адекватно и гармонично собрать. Я же сократил спектакль в два раза, изначально там планировалось три акта. Большой кусок текста ушёл, музыку я сократил, вокальные номера некоторые порезал — сама конструкция «Нормы» позволяла это сделать. Это же не совсем роман, это книга-инсталляция. Сорокин тогда ещё был художником, это первый его текст, обозначающий переход в писательскую деятельность.
Инсталляция, грубое членение на совершенно разные по стилистике текстовые блоки подсказали вам конкретные режиссёрские решения?
Да-да-да. Меня потрясла, во-первых, актуальность этого текста, несмотря на его «давнишность». И очень понравилась радикальная форма композиции, о которой вы говорите, — нарочитый отказ от нарратива меня просто восхитил. Но поначалу я совершенно не знал, как это поставить. Идей — ноль, просто дикое желание сделать. Потом я придумал, что, например, четвёртая часть — «Времена года» — это будут прекрасные песни. Смешно, что когда мы встречались в Берлине, я спросил Сорокина: «Владимир Георгиевич, а стихи — они же пародия на авторов, популярных в тот период?» Он говорит: «Нет, это просто мои стихи». Хотя я был абсолютно уверен, что он мимикрирует то под Есенина, то под Багрицкого, то под Евтушенко. Оказалось — нет.

Пресс-служба
Недавно я посмотрела вашего «Левшу». Как абсолютному фанату Лескова, мне было невероятно интересно, удастся ли сохранить вербальное колдовство этого текста.
Язык там потрясающий, это да.
А ещё хотелось, чтобы осталась важнейшая болезненная идея о ненужности таланта в России.
Да-да, точно.
Точно? Мне кажется, ваш спектакль — про другое. Когда начался большой ярмарочный балаган, когда появилась женщина с поролоновыми грудями…
У нее всё было поролоновое, не только груди.
…и женщина-подсолнух — или она была лютик? — и Ленин, и опять Сталин, и Горбачёв, и резиновый коронавирус… Вам не кажется, что это попытка поженить текст с сегодняшним днём, бесконечное подмигивание зрителю: «Смотри-смотри, написано было так, но мы-то видим фигу в кармане». Не кажется, что это удешевляет изумительной тонкости и жемчужного блеска текст Лескова?
Нет, не кажется. Лесковский текст остался там же, где был: в книжечке, в книжечке. На самом деле история с «Левшой» — сложная штука. Инициатором был Евгений Миронов, он мне его предложил, причём очень настоятельно. В данном случае я был своего рода Левшой, который должен был сделать «то, не знаю что», фактически — подковать блоху. Мы очень долго потюкивали молоточками, потому что я никак не мог этот текст отпереть. Маша Трегубова, художник-сценограф и художник по костюмам, создала некий комикс — с движущимися картинками, с горой, с разными сценическими затеями, — который достаточно жёстко диктовал способ повествования. Именно текстуально спектакль для меня оказался очень сложным, в день первого показа мы ещё что-то меняли.
В чём была проблема?
Оказалось, что в том космосе, который предложила Маша, очень сложно, даже невозможно этот текст иллюстрировать. Всякая попытка иллюстрации создавала какую-то плоскую картинку, а мне нужен был объёмный мир, в который зритель смог бы войти. Сам текст сопротивлялся плоскому воплощению: Валера Печейкин написал четыре инсценировки, три из которых были отвергнуты. Но мне кажется, что в результате мы справились. Может быть, наша блоха перестала «дансе танцевать», но подковали мы её нормальненько.

Ира Полярная/пресс-служба
Берясь на сцене за классический текст, вы вообще чего-то боитесь?
Самый большой профессиональный страх — что мне не понравится результат, то, что я сделал. Пару раз в жизни бывало, что в силу ряда обстоятельств выходило не то, что я могу принять. На самом деле, с «Левшой» тоже был момент, когда я понимал, что лично для меня спектакль не складывается. Потребовались титанические усилия — и мои внутренние, и в коммуникации с театром и артистами, — чтобы это переломить и достичь качества, которое бы меня удовлетворило.
Пару лет назад, отвечая на вопрос, что бы вы сделали, если бы стали министром культуры, вы сказали: «Назавтра бы уволился». Сегодня ответ был бы таким же?
Ой, слушайте, сначала надо им стать. Невозможно ведь быть министром культуры в абстрактном мире, можно стать им только в мире существующем, да? Но в сегодняшней реальности ситуация такова, что по какой-то причине мне невозможно стать даже руководителем какого-нибудь театра.
А у вас есть такие амбиции?
Знаете, я начал этого хотеть. Как будто достиг состояния, в котором это стало казаться интересным, занимательным: делать проекты не по два-три месяца, а другого масштаба, большой протяжённости. Это создаёт иную глубину погружения в реальность, достичь которой можно только на длинной дистанции.
Для этого вам нужна должность?
Дело не в должности. Понимаете, можно пойти на десятидневный ретрит, у этого ретрита есть определённый ресурс: моей энергии и итога, который ты получаешь по окончании этих десяти дней. Точно так же с театральным проектом: мы работали над «Левшой» два с половиной месяца, каждый день тренировались, исследовали, находились в общем поле. Это касается любого спектакля. А руководить театром — проект с другой длительностью, с другим уровнем погружения. В этом случае ты с группой людей проводишь не два месяца, а год, или три, или пять. И узор, который сплетается в процессе взаимодействия, становится более объёмным. Так что дело не в должности, не в административном ресурсе, а в опыте иного уровня.
На какую книгу похожа ваша жизнь?
Ой, интересный вопрос. На «Двенадцать стульев».














