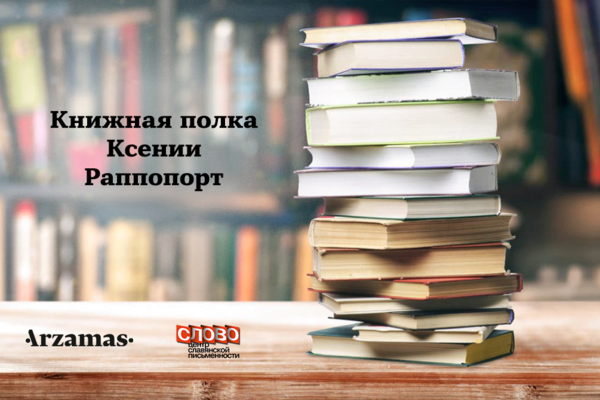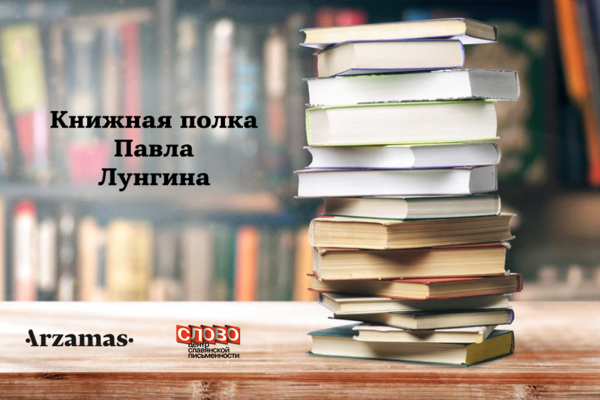Валерий Тодоровский о своем телесериале «Оттепель»
У нашего кино 1960-х есть такая особенность: герои существуют так, будто вокруг нет советской власти. В тех фильмах, в «Июльском дожде» например, есть внешние ее приметы — портреты в кабинетах, магазины, быт,— но люди живут как-то мимо этого. Снимая «Оттепель», вы отдавали дань только этому времени, на которое пришлось детство, или еще чему-то в себе нынешнем?
Это одна из главных причин, почему я этот фильм снимал. Я хотел снять фильм про то, как людям разрешили жить — и они начали жить. Своей частной жизнью, творческой жизнью, жизнью без идеологии, без страхов явных. И жили они, в отличие от сегодняшнего дня, на реально стоградусных температурах. Запои, романы, самоубийства… Человек, влюбившись, приходил на следующее утро и делал предложение — такое было сплошь и рядом. Это было время, когда можно было увести жену друга. То есть все понимали, что это, в общем, нехорошо, но так происходило, потому что на первом месте были чувства. Человек приходил к другу и говорил: «Я люблю твою жену, и я хочу ее у тебя увести». Потому что любовь — это была некая высшая категория, важнее, чем дружба, порядочность, что-то еще. И поэтому я стал это снимать — не потому, что мне хотелось какой-то политический месседж туда засунуть. Про этих людей, проживавших-сжигавших свою жизнь, и про вот это утерянное ощущение искренности, ощущение свободы. Внезапной, нахлынувшей — не свободы, которая была как данность, а которая пришла вдруг. И люди сказали себе: «Давайте жить здесь и сейчас, сегодня, потому что неизвестно, что будет дальше». А жить — это значит любить, творить, совершать поступки.
У меня на предварительном показе был фантастический момент. Среди зрителей я увидел Наталью Борисовну Рязанцеву. И понял, что это человек, которого я боюсь. Она сценарист «Крыльев» и «Долгих проводов», а еще — она первая жена Шпаликова. Это женщина реально оттуда, из того времени и из той киношной среды, про которую и есть наш сериал. И я подумал — вот сейчас она подойдет и скажет: «Валерик, ты соврал». А она сказала: «Все так и было». В «Оттепели» нет вранья не с точки зрения фактологии, а с точки зрения вот этого воздуха, настроения, поведения людей. Да, вот так, в пять утра, приходили, звонили в дверь и говорили: «Я ее люблю, я жить без нее не могу». Так изменяли женам, так возвращались к женам, так дружили, так дрались на поминках и кричали: «Ты сука, ты мразь! Ты не смеешь так говорить о моем друге!». Жизнь шла наотмашь — не обязательно правильная и не обязательно идеальная, но эти люди позволяли себе быть собой. Очень многие именно из-за этого рано сгорали. Да, было ощущение невостребованности, были самоубийства — миф о том, что в оттепель абсолютно все, кто хотел, могли реализоваться, это ерунда. Все равно цензура работала, система работала, и сценарист Костя Паршин, который в сериале покончил с собой — это одна из историй, которые тогда случались. И я хотел снять про жизнь на краю эмоций.
Вы сняли фильм про цех, который вам хорошо известен. Что сегодня в этом цеху осталось от того времени?
Ничего не осталось, на мой взгляд. Вообще, по жанру «Оттепель» — это производственная драма. Что такое кино? Это производство, конкретное занятие. И так как оно мне наиболее знакомо и близко и меня окружали всю жизнь люди, занятые этим делом, я решил снять производственный фильм про кино. Там есть начальник, есть съемочный процесс, есть интриги внутренние: этого уволили, этого назначили, этот оператор хороший, но тот круче — одного подвинули, второго поставили. Но если бы я снял фильм только про это, было бы никому не интересно. А я рассказываю историю про то, что на этой площадке происходят мегаотношения и кипят страсти. Это фильм в первую очередь про природу творчества, про людей, которые жертвуют всем ради того, чтобы сотворить что-то, в частности — фильм. Это фильм про любовь, там есть большая мелодрама и сильный любовный треугольник, и к концу сериала вы увидите, как он разовьется, в какой ад превратится для всех троих. И это фильм про высокую дружбу и про жертвы, которые ради нее и ради творчества кладутся на алтарь.
Давайте вернемся к сегодняшнему цеху. Другой уровень техники, другие деньги, другие приемы… Что с искренностью?
— Ну невозможно от людей требовать искренности в мире неискреннем. Я не хочу сказать, что то было хорошее время, а сейчас плохое. Вообще-то я думаю, сейчас время гораздо лучше, гораздо лучше. Но за то, что ты живешь в XXI веке, ты должен платить. Вот это романтическое, наивное, детское творчество и восприятие жизни уходит, меняются ставки.
Ведь как они тогда жили? Все нищие, все примерно одинаково бедные. Живут в долг — пятерку, червонец там. И никаких вариантов эту ситуацию изменить — пойти заработать, написать сценарий сериала, получить большой гонорар — такого практически не было. А что остается? Жить. Ну как? Вот бутылка портвейна, кусок сыра, на кухне сели, выпили, не хватило, вышли на улицу — и в загул. А сегодня человек кино может уже при определенных обстоятельствах быть богатым — но надо чем-то платить. Ты не можешь до пяти утра с друзьями сидеть, если хочешь быть в системе. Это и меня касается. И расплата моя в том, что я не могу приехать к вам в гости, у меня не осталось друзей, у меня нет времени на них, у меня не осталось вот этого люфта, воздуха, который позволяет совершать необязательные, глупые и прекрасные поступки, потому что я весь распланирован. И невозможна ситуация, при которой я мог бы выйти в 12 ночи в ларек за сигаретами, позвонить приятелю и, не знаю, сорваться и уехать в Ленинград. Я не могу, у меня утром назначена встреча! В «Оттепели» есть сцена в первой серии, когда у героев девушки сидят в такси… готовые на все, а они девушек бросают и идут на станцию читать стихи в буфете, а потом запивают, и лежат в парке на траве, и качаются на качелях — и так три дня. Тогда это была норма, какая-то неотъемлемая часть жизни. Сегодня человек, который себе такое позволяет — маргинал, аутсайдер, лузер. Если ты можешь себе позволить загулять на три дня — значит, ты никому не нужен.
Почему главный герой — Хрусталев? Эта фамилия кинематографически довольно отягощена.
Вы знаете, я не буду врать, мы когда сели с моими замечательными сценаристами, Димой Константиновым и Аленой Званцовой, откуда-то выскочила фамилия Хрусталев. И я сказал: «Давай пока Хрусталев, потом поменяем». А потом я уже не мог его переименовать. Мне нравится, что, с одной стороны, это, в общем, простая русская фамилия, с другой стороны — в ней, как в слове «хрусталь», есть и хрупкость какая-то, и жесткость, и ребристость, и острота — об него можно пораниться. И я решил — да пусть думают, что хотят, ну, не знаю, ну, в конце концов, Хрусталев — это распространенная фамилия. И оставил ее. А потом подумал: ну о’кей, если она кинематографическая — еще лучше, он же кинооператор. Такие вещи обычно происходят случайно, а потом вдруг обрастают смыслами — и их невозможно поменять, потому что приросло. Вот и все. Мне говорили: «Замени, потому что все будут искать здесь какие-то реминисценции и так далее». А мне плевать, хотите искать — ищите.
Такое ощущение, что вы в этой истории многое делали без оглядки.
Если говорить про мои ощущения — да, я сказал себе: это будет фильм, которым я избавлюсь от всех своих страхов. Я не буду бояться ничего. Избавлюсь от страха, что плохо получится, что будет некрасиво снято, что слишком просто и примитивно, что не слишком интеллектуально. Я избавлюсь от страха, будет ли рейтинг, а это важно, один из самых главных страхов на телевидении. Буду снимать как Бог на душу положит, на выдохе, понимаете? Просто дышать и снимать. Потому что вообще когда ты делаешь кино, то, конечно, огромное количество страхов тебя преследует — что не возьмут на кинофестиваль, что народ не поймет, что слишком сложно, слишком просто. И, кстати, огромный плюс сериала в том, что это длинно: да, ты проживаешь 12 часов фильма за пять месяцев ада, потому что это ад — такое снять.
Лица шестидесятников, которые мы видим на фотографиях наших родителей, тоже отмечены особой печатью — или видятся особенными из сегодняшнего дня. Как вы выбирали актеров?
Я сказал себе, что я сниму фильм, в котором не будет некрасивых женщин — будут только красивые и очень красивые. В этом фильме только убийственные женщины — да я считаю, что и мужчины тоже. Саша Яценко — это тысячепроцентное попадание в образ тех лет. А стройный, поджарый артист Цыганов по моей просьбе поправился. Мне надо было, чтобы он стал немножко мужиковатым, тяжеловатым. Вы же понимаете, это были люди пьющие, курящие, живущие на износ, не занимающиеся своим здоровьем. И Цыганов свои пять килограмм набрал. Я его вообще попросил как бы несколько поистаскаться — то есть вот такой свежачок, здоровенький московский артист, мне не подходил. И Женя с этим отлично справился. А после того, как мы сняли, мгновенно похудел.
Секс, мат, алкоголь… Что пойдет в эфир?
Это вопрос к «Первому каналу». Пока что меня попросили замазать откровенно голую натуру — ну, есть законы. Потом меня попросили переозвучить матерную фразу — ее мне очень жалко, но придется это убрать, потому что иначе они не смогут это поставить в прайм-тайм. Но в издании на DVD и, естественно, в интернете это будет чистая версия, авторская, там ничего не будет убрано. Но вообще, я должен сказать, что наши отношения с Константином Эрнстом на этом проекте были близки к идеальным: мы подписали договор, и в следующий раз,— внимание!— я с ним встретился в день, когда сериал был закончен. Он сделал мне огромный подарок — поверил в эту историю, дал снять фильм, который я хотел, и ни разу не вмешался.
Возвращаясь к теме сериалов — в чем причина таких редких российских сериальных удач?
На эту тему я могу говорить часами, коротко ответить очень трудно. Есть несколько принципиальных моментов. У нас по-прежнему сериалы считаются второсортной, если не третьесортной формой, да? Когда артисту звонит агент и говорит: «Тебе там предлагают роль», артист спрашивает: «Сериал или полный метр?». В сериал идут, потому что надо зарабатывать, а полный метр — это искусство. При этом, по моему глубочайшему убеждению, сегодня в Америке, да и в мире тоже средний уровень качественных сериалов гораздо выше, чем средний уровень кино,— по драматургии, по режиссуре и по чему угодно. Тем не менее существует предрассудок. Талантливые, серьезные сценаристы и режиссеры идут туда как бы на заработок. За многие годы продюсерства сериального я не помню случая, чтобы ко мне пришел человек, серьезный, с определенным уровнем, и сказал: «Я хочу снять сериал вот про это и про это, потому что мне этого хочется». Никогда. Обычная история такая — ты звонишь человеку, человек говорит: «Вот у меня есть полный метр, я хочу его снять, но у меня нет денег. Поэтому у меня есть время — и я мог бы снять какой-то сериал». Поэтому пока не произойдет переосмысления, удач не будет. Я-то пошел снимать сериал не потому, что мне никто не даст снимать полный метр,— я хотел снять сериал. Это сериал, который при определенных обстоятельствах может иметь второй сезон, третий, четвертый — если зритель будет заинтересован, да? Когда люди начнут творчески, искренне хотеть делать сериал — а не потому, что нет другой работы,— и относиться к нему как к делу жизни, как к своему авторскому высказыванию, не забывая о том, что это должно быть увлекательно, эмоционально, это должно держать зрителя,— будет прорыв. В Америке это произошло, у нас пока нет.
Есть второй момент, почему очень низкий уровень: у нас вообще очень низкий уровень в профессии сегодня. В стране огромная нехватка профессиональных людей, которые могут писать сценарии, которые могут снимать это. Третье: наши бюджеты и деньги таковы, что надо работать на износ… Я снимал семь минут в день — это тяжело, ты в какой-то момент начинаешь просто умирать от усталости и вероятность того, что ты испортишь, она очень большая. В Америке этот вопрос решается по-другому — там сериал снимают несколько режиссеров, а уж то, как они это делают, это совсем отдельная тема. Но там снимает несколько человек.
Что вы считаете отечественными сериальными удачами?
Думаю, что сериал «Бригада», где я когда-то был сопродюсером, это большая удача. «Ликвидация» Сережи Урсуляка — огромная удача… Какая-то ошибка, что они не сделали второй сезон, третий…
«Апостол» — в меньшей степени, но это дело вкуса. У Урсуляка была еще «Жизнь и судьба», хотя это скорее многосерийный фильм. Мне очень понравился только что вышедший сериал «Крик совы» Олега Погодина — это очень высокого класса детектив такой, с атмосферой, с героями, со всем. Я боюсь что-то сейчас забыть, не хочу обижать коллег — удач было больше, чем я сейчас назвал.

Еще раз возвращаясь к эпохе, к 1960-м,— что умели эти люди, поколение вашего отца, Петра Ефимовича Тодоровского?
Они были, безусловно, идеалистами. Они жили так и работали так, и для них кино — это было не бизнес, не ремесло, а это была жизнь, они снимали фильмы, для них это был вопрос жизни и смерти. Если бы им сказали тогда, что это индустрия, они бы засмеялись — какая индустрия? Так же как и любовь, это был смысл жизни — не путь куда-то, не способ куда-то дойти, получить приз или деньги, а просто этим жить. Я еще и поэтому хотел снять этот фильм — потому что я хотел сказать: «богатыри — не вы». Притом что эти люди — не святоши совсем. Вы увидите, к чему они придут в конце фильма, до чего я доведу двух главных героев… Они дойдут, пройдя через страшные вещи, страшные — и останутся красавцами, благородными. Но и потеряют очень многое.
Петр Ефимович не успел увидеть фильм, но читал сценарий. Что он сказал?
Он никогда не оценивал меня, он не занимался рецензированием. Прочел и сказал: «Ну давай, снимай»,— вот все, что он сказал. И так было всегда с ним, то есть это никогда не было там «ты должен это сделать!» или там… Нет, «ну давай, снимай, посмотрим»,— все, что он сказал.
В фильме будет персонаж — эпизодический, но ярчайший. К Хрусталеву приезжает его друг и собутыльник, сокурсник по ВГИКу Петя из Одессы, такой игрунчик с гитарой. Полный багажник кровяной колбасы с Привоза, помидоров, сала одесского, всей этой жратвы — и они впадают в загул. Чем заканчивается этот загул, вы увидите. И вот туда я заложил папу, просто хотел сделать это для него…