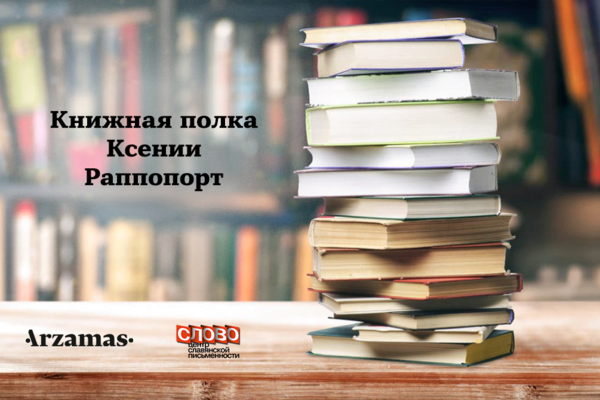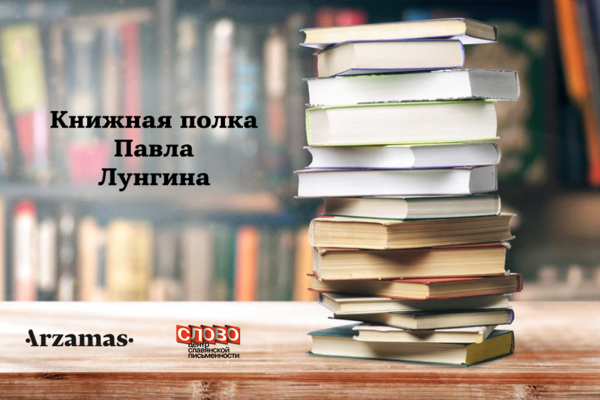Про корни

Вадим Абдрашитов на ХVI Московском международном кинофестивале. 1989 год
Фото: Виктор Великжанин/Фото ИТАР-ТАСС
У нас была кочевая офицерская семья. Я родился в Харькове, потом были Дальний Восток, Питер, Казахстан, Сибирь… Единственный ценный багаж — отцовская библиотека, огромные ящики с книгами, мы их возили с собой через всю страну. Мама, химик по образованию, не работала, была классическая офицерская жена: занималась домом и нами, детьми. Она была красавица, по-женски очень обаятельная. Отец был особый, отдельный человек — чрезвычайной скромности и очень цельного характера. Это был нетипичный военный, совсем. В молодости играл на скрипке, много читал, всем интересовался. Когда ушел в запас, полюбил книги по искусству. Я говорил — папа, ну это бред какой-то, зачем тебе эти искусствоведы! А он бесконечно читал — о живописи, скульптуре, собирал альбомы. Не был солдафоном, я не знаю, как в нем уживалось армейское и вот это, другое. Толком не понимаю, как он попал в армию. Брат его пошел по партийной линии и после фронта служил в ЦК компартии Казахстана. Дядя Хаким был очень хороший человек, они с отцом крепко, по-братски друг друга любили. Наверное, для ребенка это очень важно, вот так расти, как я рос, видя в семье только взаимную любовь и уважение.
Про детство
Глядя назад, я понимаю, что жизнь была непростая, а в детстве казалось — всего хватает. Было главное — забота матери и отцовская любовь, пусть бытово и материально было непросто. Все определял кочевой образ жизни. В Сибири, в Барабинске — отец был там военным комендантом,— я сильно заболел скарлатиной. Получил осложнение на почки, меня выписали в тяжелом состоянии и сказали — нужны солнце и фрукты. Отец написал письмо маршалу обороны Малиновскому — ребенку необходим другой климат, переведите в Алма-Ату, у меня там брат… Написал практически в никуда. Потрясает то, что через 10 дней пришел ответ — приказ о переводе. Всем было трудно поверить, что какие-то механизмы той системы сработали… Но при нас, детях, никаких разговоров философического, политического свойства никогда не вели.
Про учение
Мы с братом были круглыми отличниками, но родителей без конца вызывали учителя за наши безобразия. Нам было скучно в школе, оставалась дикая энергия, и мы искали выход в дворовой мафии — тянуло к асоциальным типам с темными историями. Но вот не прилипло это к нам, может, потому что мы мигрировали, не успевали сильно в это погрузиться, осесть и… присесть. После 7-го класса, когда наскучило в школе, я ушел в техникум — как раз набирали способных ребят в новую группу электроники и физики. Родители поддержали: и профессия, и прямая дорога в институт. В техникуме стремительное взросление буквально промололо меня: мне 14, а вокруг — дядьки, отслужившие армию. Быстро-быстро научили курить, пить водку, а еще рядом было общежитие и часто после занятий я шел уже не домой, а туда. Общежитская жизнь, сами понимаете, это уже совсем такое… особое дело. Весной 61-го взлетел Гагарин, и я решил, что космос и физика — это мое. Забрал документы из техникума и уехал в Москву поступать на физтех. До ВГИКа было еще далеко…
Про дружбу
Молодость прошла в географических бросках, поэтому друзей у меня много — мы часто слетаемся друг к другу и провожаем друг друга в мир иной тоже все вместе. По сей день среди них — люди разных способов жизни, разных профессий, и этой разностью они мне интересны. Много друзей-физиков — в Дубне, Черноголовке… Друзья с завода по сей день остались. И, судя по тому, что они вокруг меня держатся, что-то я в нашу дружбу вкладываю. И поэтому, наверное, глобального, сильно ранящего предательства друзей я не переживал. А может, еще и потому, что жизнь была спокойная у нашего поколения — ни войн, ни ситуаций страшного какого-то выбора.
Про любовь
Я в молодости был, можно сказать, в перманентном состоянии влюбленности. Одноклассницы, институтские подруги, и все такие разные… Когда гормоны играют — да, господи, хоть та, хоть вот эта!.. К счастью, в любви все непонятно, и объяснить, почему из сотен тысяч вариантов происходит какое-то совпадение, невозможно. А в случае с Нателлой объяснять этого, по-моему, и не нужно. Мы встретились до банальности просто — познакомили друзья. И, конечно, я тут же был покорен ею. Как-то сразу стало все ясно про нас, сразу было ощущение серьезной повязки, на всю жизнь. И мы очень энергично в эту жизнь врубились — и работой, и домом, и всем своим чувством. Давайте выпьем за любовь, я так взволновался! Но, живя с Нателлой — может, и беда в этом моя была,— я не до конца понимал масштаб, уровень ее таланта как художника и человека. И ощущать себя мужчиной, мужем, который долго ничем не мог помочь своей женщине реализоваться,— это очень тяжелое чувство. Я не смог оградить ее от реальной жизни — болезни родителей, ведения дома, поднимания на ноги детей, все это было на ней. Я занимался своим кино. Не было у нас прислуги, денег всегда было немного… Из-за этого у Нателлы был большой перерыв в творчестве. И когда она активно вернулась в работу, многие были в изумлении: где ты была раньше, откуда что взялось… Так что виноват, конечно. А поскольку эта вина неисправима, то она всегда со мной. Как и праздник этот, в виде Нателлы,— он тоже всегда со мной. Наверное, браки все-таки заключаются на небесах, ну, или нам, во всяком случае, дали там добро.
Про важное
У нас были добрые, верные отношения с братом, с Игорем. Его уход из жизни в 34 года — страшная потеря. Мы были всегда в такой плотной связке… Нет, не как близнецы, мы были совсем разные, по характеру тоже. Он и внешне был совершенно русским человеком — мама-то русская, а во мне видна азиатчина отцовская. Брат окончил МИФИ, работал на реакторе и канонически — прямо как в фильме «9 дней одного года» — сгорел. Как это произошло, я до конца не знаю. Подозреваю какой-то маразм с техникой безопасности, а отчасти, может быть, он сам полез, как герой Баталова, никто его не предупредил. Нам ничего не объяснили под предлогом, что это закрытый объект. Отец по военным каналам пытался что-то узнать — бесполезно. То есть брат просто хватанул такую высокую дозу, что буквально сгорел — за месяц, да… за месяц. Писал стихи, музыку к ним подбирал, блестяще учился… Светлая, светлая голова. Вот такой человек был у меня в жизни. И эта потеря — она до конца необъяснимая и необъясненная. Я говорю о самом себе, о неспособности принять это… По сей день ее чувствую — черную дыру, которую ничем не залатать.
Про успех
На Московском заводе электровакуумных приборов я работал после Физтеха и готовился во ВГИК. За плечами была мощная школа кинолюбительства, я уже понимал, что такое монтаж, драматургия, но по закону надо было отработать три года по институтской специальности. Пошел на завод. Это было совершенно новое дело, опытное производство цветных телевизоров — специалистов в стране не было, осваивали все совершенно с нуля. И оно как-то увлекло, работал я с интересом и очень много. Мне было 24, когда я стал начальником большого цеха на практически номенклатурном предприятии. Успех приходит, наверное, только если есть настоящий интерес к делу. В 1970-м закончились эти три года, и я поступил во ВГИК к великому Ромму. Судьба оказалась щедрой, и после ВГИКа меня сразу взяли на «Мосфильм» — даже диплома не было, я защитился курсовой работой, фильмом «Остановите Потапова!». Его случайно увидел Райзман и сказал мне — хватит учиться, пора работать. Я долго искал свой сценарий. Целый год сидел без зарплаты, читал, искал — не мог взяться за не свое, неинтересное мне. В итоге нашел и подружился с Александром Миндадзе. Все наши 11 картин — результат интереса и свободной работы, несмотря на страшную, чудовищную цензуру.
Про свободу
Ощущение свободы в том, что делаю, у меня было всегда. К цензуре я относился просто и группу свою учил: государство дает тебе денег на картину, а ты ее делаешь, как бы ведя полемику с властью, поэтому претензии власти — это нормально. Этот этап работы называется «сдача картины» и длится иногда черт знает сколько времени, «Парад планет» я сдавал девять месяцев. Я ничего не изменил, ни в одной картине. Хотя нет, шрам остался на одной, «Охота на лис». Там была уже такая ситуация, что картины могло не быть вообще либо она могла выйти вот в таком варианте. Меня заставляли выбросить шесть эпизодов. Я отказался и был уволен с «Мосфильма». Некая зондеркоманда картину покорежила, но, к счастью, из страха перестарались, и стало совсем непонятно, о чем это вообще. Через три дня меня вернули и сказали — из шести эпизодов пять верните, но один надо убрать. Мы сели с Миндадзе и стали соображать, какой. Приняли решение, по прошествии времени я понимаю, что абсолютно верное. Сейчас у каждого человека есть возможность говорить то, что он думает. Сложнее с тем, чтобы быть услышанным. Но я не хожу на митинги. Все, что хотел сказать вслух, говорил фильмами, и, надеюсь, внятно. Когда мои студенты говорят: «Мы идем на митинг», отвечаю им — лучше снимите фильм об этом, будет гораздо больше пользы. Мои картины, даже давние, показывают время от времени по телевизору, и бывает интересно, как фильмы смотрятся: не сами по себе, а среди сегодняшних новостей, ток-шоу, рекламы… И кажется мне, что они по-прежнему, скажем так, злободневны.
Про веру
Если я правильно понимаю вопрос, то я — верующий. Во что конкретно верю — тут все просто. Мы выживаем, потому что срабатывает инстинкт самосохранения. Но для того чтобы жизнь продолжалась, должен срабатывать еще и инстинкт коллективного — родового, племенного, какого-то самого общего выживания. Наверное, вербально это и выражено в религии. Если эти программы общего выживания не срабатывают — не срабатывает вера. Тогда этот вид, сообщество, народ погибает. И, например, если власть, государство принимает закон об образовании в нынешнем виде — то пора говорить о сбое в инстинкте самосохранения российского сообщества. Закон об образовании нарушает заповедь — ту, которая велит заботиться о своих детях, об их нравственном здоровье. Сокращение гуманитарной составляющей образования, сокращение часов русской литературы в школе — для России это страшный знак угасания инстинкта самосохранения, а значит — угасания веры. А еще, конечно, ничто так не говорит о сбое этого инстинкта, как, по сути, суицидная на 90 процентов продукция нашего телевидения.
О страхе
Самое страшное — это невозможность что-то сделать в катастрофической ситуации. Когда что-то ужасное происходит с моими близкими, с моим делом, а я никак не могу этого изменить.. Это очень конкретный, безусловный страх. Честно говоря, я надеялся, что закон об образовании вот в этом, суицидном его виде все-таки не пройдет. А он проходит, и я лично ничего сделать не смог. И это страшно. Раз в пять лет я набираю режиссерскую мастерскую и вижу, как катастрофически падает общекультурный уровень абитуриентов. С каждым пятилетием — скачок вниз. Вырождение нации — это громко сказано, но есть ощущение, что вместо молодых людей, так или иначе приобщенных к азам культуры, будет просто стадо.
Про деньги
В кино я никогда много не зарабатывал — делал только то, что нравилось. Уж приносило это деньги или нет — всегда второй вопрос. Денег всегда не хватает. Я не просыпаюсь от этого в холодном поту, но просыпаюсь и думаю — это нужно и это, черт, а вот это опять не получится. Стучащий старый мотор заставляет думать о новой машине — это тоже пока не получается. Но главное, чего не хватает,— денег, чтобы снять картину. И если на меня свалится огромная сумма — не при жене будь сказано,— я сразу запущусь с фильмом, который требует 20 миллионов. Да! Запущусь и поменяю машину. И — куплю у Нателлы что-то из ее картин, пусть это будет моя собственность.
Про детей
Одной уже 30, другому 40, а мне главное — чтобы они были здоровы. Хочу, чтобы были свободными людьми, так, как я понимаю свободу. И в этом смысле я в полной гармонии с тем, какой способ жизни они выбрали. Нана — известный уже театральный сценограф, Олег — IT-специалист. И, слава богу, они оба с радостью делают свое дело. В Олеге больше, наверное, от меня, не случайно он пошел в физики. А в Нане — от Нателлы, она замечательный график и настоящий трудоголик. Это и есть их свобода.
Три слова о себе
Американский режиссер Кинг Видор, отвечая, какие качества нужны режиссеру, так перечислил: первое, второе и третье — здоровье, четвертое — умение говорить с начальством, пятое — умение говорить с актрисой-примой. И с годами выяснилось, что это четкий ответ на четкий вопрос. Здоровье, гибкость, умение говорить с людьми и трудолюбие на биологическом уровне — люди это привечают и отдают должное. И если во мне это есть — такая отдача любимому делу, значит, товарищам по этому общему делу работается со мной интересно. Надеюсь.