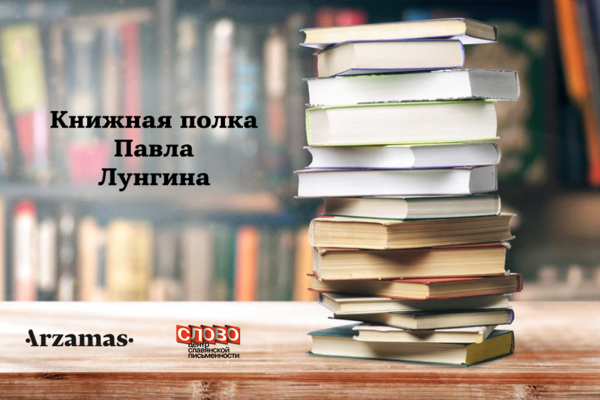Вы ходите в спортзал?
Нет не хожу, только — с детьми в бассейн. Но если говорить о какой-то регулярности, дисциплине – наверное, честным будет сказать, что нет.
И в детстве спортом не занимались?
Меня возили в бассейн чуть ли не с двухнедельного возраста, потом я занимался всяким теннисом – но ничем особенно серьезно, все на уровне кружков и секций. Честно говоря, я в этом смысле достаточно ленивый. Кажется, и детям моим это передалось, они готовы поиграть во что-то, но ходить постоянно, серьезно в это вкладываться — нет. Хотя, вру: один сын у меня — ему семь лет, — профессионально занимается футболом, бежит туда, сломя голову, в дождь и в снег, без конца торчит на тренировках, просто одержим этим делом. Он очень упертый мальчик и у него хорошо получается.
Как вы без регулярных занятий спортом поддерживаете физическую форму?
Я работаю в театре, играю спектакли, которые от меня требуют довольно серьезной физической нагрузки. Или, как минимум, собранности.
«Одна абсолютно счастливая деревня»?
Да, например. Я играю его уже почти двадцать лет и там мне приходится ползать по потолку, по канатам, много чего еще делать. Отыграть такой спектакль – это как полтора раза сходить в зал. Более того, я понимаю, что до спектакля не могу себе позволить каких-то серьезных нагрузок, и даже не потому, что боюсь после них не подняться по канату. Если ты устал в спортзале, то не сможешь нормально выйти на сцену играть, например, Карандышева.
Но чтобы подняться по канату, какой-то физический ресурс необходим.
У меня, наверное, хорошая наследственность. Прадед по папиной линии профессионально занимался греко-римской борьбой, даже выступал в цирке. Он такая семейная легенда: «выходят на арену силачи» — это как раз про него, про ребят, которые жонглировали гирями. Остались фотографии – стоит красавец с геометрическими формами, в трико. И отец мой всю жизнь занимался йогой, какими-то практиками, до сих пор продолжает, а ему уже 80 лет.
Вас пытался втянуть?
Пытался, в детстве занимался со мной йогой, пока я не сказал «все, папа, хватит». Мне было просто смешно, я все время хохотал на этих тренировках. Только сейчас понимаю, насколько сложно чем-то заниматься со своими детьми: недавно пытался ребенка на сноуборд поставить, десять минут он меня слушал, потом сказал: «Знаешь, пап, я сам знаю, как надо», — и полетел кувыркаться. Нужен инструктор, посторонний человек – тогда ребенок понимает, что это серьезно.
Сами давно катаетесь?
Начал достаточно поздно, но посвятил этому много времени. Лыжи – нет, на лыжах я лучше падаю, чем катаюсь, только для кино приходилось на них вставать. А вот на сноуборде стою довольно уверенно. Еще вейк-бордингом какое-то время занимался, кайт-серфингом, не против на скейте по городу передвигаться. Не то чтобы мне особо есть, чем похвастаться в смысле достижений, но я это люблю. Когда появляется определенная легкость, когда перестаешь бороться с доской, с ногами, с горой и просто начинаешь получать удовольствие — это как танец с пространством. Есть, конечно, и момент адреналина, на который подсаживаешься.
То, что это травматичный спорт, никогда вас не останавливало?
Я достаточно осторожный человек. Не последствия детских травм — просто склад характера. Катаюсь, например, без касок, без шлема, но при этом никогда не ринусь с горы, не зная, что там внизу, не проверив трассу. Прокачусь спокойно, посмотрю — что где. Это, может быть, результат работы в кино: я не особо снимаюсь в блокбастерах, но мне приходилось достаточно много работать с каскадерами, и я понимаю, что любая серьезная в физическом отношении штука требует подготовки, что есть такое понятие «постепенно».
Зарядку делаете?
Стараюсь, да. Каждый день почти, а последнее время даже стал заставлять себя пробегать по утрам какое-то количество километров– это новшество в моей жизни.
Что вдруг вас на это сподвигло?
Я снимался сейчас в Тель-Авиве, а там все бегут, весь город куда-то бежит. И вот выходишь на улицу, сначала ты как бы погулял, потом еще погулял, а раз – ты уже бежишь. Как все.
Сколько пробегаете?
Сколько попадет в настроение. Знаете, у меня есть музыкальная группа…
«Пока прет».
Да-да, вот и бегаю по такому принципу.
Зарядка ваша из чего состоит?
Ничего оригинального. Я же учился в театральном вузе, а там занимаются и акробатикой, и парной акробатикой, и разминками всякими — это часть моей профессии. Ну и поскольку я в первую очередь – театральный актер, то и про тело свое что-то знаю. Если, к примеру, начну ходить в зал и заниматься железом, то раскачаюсь – а мне это совсем не надо, нарощенное – совсем не мое. Было время, приятель затащил меня в качалку – такую прямо нормальную, подвальную. Это случилось после экспедиции на Алтай, настроение у нас было довольно дикое — мы долго торчали там практически вдвоем, что оказалось страшно тоскливо. От тоски мы то в горную речку залезали, то пытались развлечься рукопашкой, приятель — спортсмен и довольно серьезно этим занимался. И когда мы вернулись в Москву, он заявил: «Займусь тобой, затащу тебя в зал». Я упирался, говорил: «Мне это не нужно», а он: «Нет, давай хотя бы подсушимся». Но проблема была в том, что каждый поход в качалку мы после тренировки отмечали, так что толку от этого спорта было мало.
А как в целом складываются ваши отношения с алкоголем?
Слушайте, это стремная какая-то грань разговора. По-разному складываются наши с ним отношения. Есть периоды, когда я не пью совсем. Если говорить о какой-то победе над собой — для меня это важный момент. Какое-то время назад я думал — как можно уснуть, если не выпил вечером? А выяснилось, что можно. И можно жить при этом полноценной жизнью, получая от нее удовольствие. Есть еще, к примеру, религиозный пост — поскольку я православный человек, то стараюсь его соблюдать. Да, бывает, прокалываюсь, но стараюсь себя к этому приучать.
Пост в смысле отказа от алкоголя?
От алкоголя, от определенной еды, от курения, мата, походов по клубам и так далее. То есть пойти в Великий пост в клуб или на концерт — это событие, про которое я как бы отдельно должен подумать и сделать это осознанно, а не так, чтобы меня понесло куда-то и там вынесло. Я человек не то чтобы увлекающийся, но знаю, что такое запои или загулы, когда ты уже не очень контролируешь ситуацию.
Вам легко дается это воздержание?
Абсолютно спокойно, нет у меня тоски, никакого «вот сейчас оно закончится и набухаюсь». Просто в какой-то момент думаешь «я ведь живой, так почему бы не выпить рюмашечку, не выкурить какого-нибудь табачку…». Но вообще — что и как я соблюдаю, это, в конечном итоге личное дело.
Курите?
На съемках курю довольно много. На площадке ведь некомфортная жизнь, она делится на два состояния: либо паника, стресс, все бегут, торопятся, «свет уходит, ничего не успеваем!», либо наоборот, ожидание — ничего не происходит, но ты не можешь ни почитать книжку, ни посмотреть кино в телефоне, потому что у тебя есть твоя роль, твой текст, ты внутренне как бы придерживаешь свою историю — потому что вообще-то находишься тут по этому поводу. А главное, никогда не знаешь, сколько у тебя есть времени – час, полтора или десять минут. Поэтому куришь. Сняли дубль – надо покурить. Потом общаешься с режиссером, который пытается тебе объяснить, чего он хочет — и курит. И ты опять куришь.
Режиссер Тодоровский не курит.
Да, хотя обожает, когда курят рядом. Но у меня есть и другой опыт: целое большое кино мы сняли, сериал «Мертвое озеро» — я не курил там совсем, для меня это был дикий эксперимент. Но, скажем честно, в это время я был, наверное, не самый приятный в общении человек. У меня и раньше такое случалось: мы поехали как-то во Францию с «Двенадцатой ночью» и я решил, что на этих гастролях брошу курить. Четыре дня держался, потом Володя Вдовиченков сказал: «Жень, может все-таки закуришь?» Потому что я сорвался — на звукорежиссера. Четыре дня всем рассказывал, какой я молодец, как я не курю — а потом психанул.
На диетах когда-нибудь сидели?
Для «Человека, который удивил всех» я худел. Скинул почти 15 кило за два месяца.
Что делали?
Сходил к специально обученным людям, которые рассказали, как устроен кишечник, рассказали про кислотно-щелочной баланс, про наши закисленные организмы. Про то, что если хочется что-то с этим сделать, нужно есть ощелачивающую еду. А это, по большому счету, только вареные овощи. Так что ты не пьешь алкоголя, не ешь мяса, а ешь вареные овощи и не жужжишь. Ну и занимаешься кардиотренировками.
То есть вообще без белка?
Почитайте в интернете про окисляющие и ощелачивающие продукты. Вот лимон – ощелачивающий. Миндаль, к примеру, тоже. А все молочное — окисляющее, причем сильно. Поэтому вы забываете про сыр под красное винишко — и вперед! Кстати, должен сказать, что меня просили похудеть раз пять до этого, и я не соглашался. Либо просто разворачивался и говорил «извините, ребята, это не та история, ради которой я буду что-то с собой делать», либо как-то убеждал, что без этого можно обойтись.
Кино эксплуатирует внешний образ актера – чаще всего тот, что полюбился публике. Вам важно именно этот образ поддерживать?
Поддержать можно штаны, мне непонятно что такое «поддерживать образ». Я же не Арнольд Шварценеггер: «Нужен качок, кто тут качок? Вот у нас качок!». Одно из первых моих интервью было в глянцевом журнале после фильма Дениса Евстигнеева «Займемся любовью». Я читал и думал – что за чушь? Слова вроде бы мои, но то, как они составлены, как поданы не имеет ко мне никакого отношения. «Новый герой» — вот это все. Мне двадцать лет, я смотрю на этот текст и вижу гигантскую дистанцию между чуваком из журнала и собой. И понимаю, что этим ребятам не я интересен, им нужен «герой». У них есть страница, которая должна быть заполнена героем и они — в поиске, им надо его во что бы то ни стало найти, а если нет — создать. А тут как раз выходит фильм, там играет парень, выпускник Фоменко, они его хватают и начинают делать из него своего журнального героя.
Вы, я чувствую, небольшой любитель журналистов.
Слушайте, ну меня в какой-то момент стали полоскать во все стороны – набросились, как шакалы, как паразиты. Им же неважно, какую страницу своей жизни я в это время переживал – про меня начали фигачить, было очень много сознательного, противного, неприятного вранья. Я и сейчас переживаю, хотя прошло уже много времени, а тогда было совсем тяжело. Звонят, к примеру: «Евгений, а правда, что ваш отец не очень хорошо себя чувствует?» Я говорю: «Слушайте, можете отвязаться? От меня, моего отца, от моих детей, за которыми вы бегаете с камерами по двору? Можно просто оставить меня в покое?» А девушка и говорит: «Нет, нельзя — у вас очень высокие рейтинги». Это я к вопросу поддержания образа. Вот эти люди — они создают мне образ, чтобы делать из этого деньги, у них рейтинги и все такое. А я не заинтересован поддерживать какой-то образ. Я вам честно скажу, мне кажется, что я, тьфу-тьфу, нахожусь в каком-то очень важном периоде жизни — судя по тому, чем она заполнена, по количеству важных для меня людей и планов, которые мне интересны. Иногда даже думаю — неужели это действительно со мной происходит? Так что ни для создания, ни для поддержки какого-то образа у меня просто нет времени, понимаете? Есть время для мечты, для новой работы. Вот я играю сегодня спектакль у Погребничко. Раньше думал «какой Погребничко классный», но даже не представлял себе, как он выглядит — и вдруг он мне звонит. Говорит: «Можешь меня выручить и войти в спектакль?» Я выручил, теперь мы общаемся, что-то собираемся новое делать. Или звонит Алексей Учитель, с которым мы выпустили две картины, «Прогулку» и «Космос как предчувствие», и говорит: «Давай опять поработаем вместе». Или звонит Валерий Петрович Тодоровский и говорит: «Женя, у меня есть подарок тебе на Новый год – сценарий». И это сценарий «Одессы» — чем не подарок?
А о сыгранных ролях случалось пожалеть?
Жалеть в целом не моя история. Да, я могу без особого удовольствия о них вспоминать, но, тем не менее, это определенный опыт, он дает понимание того, почему и как ты это сделал. Надо отнестись к этому с уважением и дальше просто не повторять ошибок.
Вы вообще не склонны рефлексировать?
Очень склонен, даже больше, чем следовало бы актеру. И мне кажется, я в состоянии из какого-то неудачного опыта делать выводы. Хотя это, конечно, не значит, что стану рваться во что-то сомнительное, чтобы извлечь какой-то позитив.
Вам что, никогда не случалось соглашаться на роль просто ради денег?
Соглашался. Одно время я понял, что все очень просто: есть дом, который ты должен обеспечивать, а для этого есть профессия и есть работа. И если, делая эту работу, ты затрачиваешься, пытаешься делать хорошо – нет ничего стыдного. Но со временем оказалось, что мотивация денег для меня не работает. Если кроме бабла в истории меня ничего не привлекает — я определенно деградирую. При это важно понимать, что кино – всегда риск. Даже самые выдающиеся режиссеры делали иногда не самые классные фильмы. Более того, мне кажется, что желание оказаться именно и только там, где все безупречно, классно и выгодно – оно изначально обречено.
У вас довольно много детей. От каких своих ошибок вы хотели бы их уберечь?
Вы такие вопросы задаете… они требуют осмысления. Вот я сейчас ребенка подвозил в школу, он говорит: «Я вчера такое сальто сделал во дворе!». Говорю ему: «Пожалуйста, береги голову» — это называется уберечь от ошибок? Конечно, я прежде всего хочу, чтобы они были здоровы, чтобы все глупости, которые они делали, и опыт, который приобретали, были не слишком травматичными. Я сам в детстве прыгал с дерева на дерево – так делать не надо. Но ты же как бы проверяешь свои возможности, их границы — допрыгну, не допрыгну. Мне отец однажды сказал: «В моей жизни столько всего было интересного, меня разрывало во все стороны – и, знаешь, я понял: это было неправильно. Надо было сосредоточиться на чем-то одном, достичь каких-то высот. А я как-то ни то, ни се», – сказал папа. И я такой думаю — «круто»!
Круто – что?
Момент крутой: папа вдруг делится с сыном какой-то сокровенной мыслью. Классно! И что дальше? А дальше я начинаю заниматься всем подряд и испытываю моменты счастья, когда мне что-то удается: у меня музыкальная группа, я занимаюсь сноубордом, я работаю в театре, я поставил спектакль, я снимаюсь в кино, я сам снимаю кино – и это классно! Так что папин опыт – это папин опыт, он сделал из него какой-то вывод. А я проживаю свою жизнь, проверяю ее на гибкость, на размах, на возможности, и у меня из этой жизни будут свои выводы. Почему я должен их кому-то навязывать?
В чем же тогда заключается воспитание?
Во-первых, я не очень авторитетный в этом человек — я же не педагог. Если бы я мог вам сказать: «Слушайте, вот я воспитал 15 прекрасных детей и точно знаю, что…»
Но у вас есть практически половина из этого числа.
Да, но я не могу сказать, что как-то классно их воспитал. Порой они себя отвратительно ведут, треплют нервы разными способами – но это же нормально.
В чем тогда заключается функция отца — кроме того, чтобы произвести их на свет?
Я их люблю, я за них переживаю, целую, глажу по голове. Я их кормлю и одеваю. Читаю сказки, вожу на концерты, на спектакли. Разговариваю с ними. Молюсь за них. Если этого мало — значит, особенно ни в чем.
Давайте поговорим о месте, которое занимают в вашей жизни театр и кино. Это одна и та же профессия?
Конечно. Нас учили, что разные двери открываются разными ключами, но это не значит, что в театре мы работаем одними приемами, а в кино — другими. Есть разный театр и разное кино.
Есть мнение, что хорош актёр, или нет можно понять, только увидев его на сцене. Вы согласны?
Не думаю. Я не видел ни Энтони Хопкинса, ни Роберта Де Ниро на сцене, даже спектакли артиста Янковского видел только в записях, но то, что эти люди делают в кино — какая-то недосягаемая высота.
То есть живая энергетика театрального зала не важна?
Сложная история. Да, в театре у тебя якобы есть власть над залом, а в кино ее нет, но для меня это прежде всего вопрос концентрации. Я работал с британским театральным режиссёром Декланом Доннелланом, одним из создателей знаменитой театральной компании Cheek by Jowl — мы ставили комедию. Так вот, он говорил, что если зрители смеются или, не дай Бог, хлопают в процессе спектакля — это нехороший знак. Зритель не должен успевать за тобой. То есть он должен понять шутку, но не успеть на нее среагировать, потому что действие уже идет дальше. Засмеялся или захлопал — значит, откинул все назад, нужно начинать с нуля. Поэтому вопрос связи с залом, реакции на него, точнее, на его реакцию – очень неоднозначный
Вам важно, если в зале есть кто-то из близких?
У нас даже есть такая шутка — если артист хорошо играет, ему говорят: «Кто-то пришел к тебе сегодня, что ли?» Наверное, да, это как-то собирает. Ты внутренне как бы говоришь пришедшему: «Видишь, я тут не просто так кашу ем».
Вы бы хотели, чтобы кто-то из детей пошел по вашим стопам в профессиональном смысле?
Нет такого жгучего желания. Я знаю, что у меня совершенно разные дети — и темпераментом, и увлечениями. В ком-то я определенно вижу уровень и артистичности, и психофизического устройства, и какого-то горения. Хотя это ведь, прямо скажем, тяжелый хлеб. У меня сейчас племянница поступала в театральный вуз, и в какой-то момент я, отыграв спектакль, сказал ей: «Как человек, который стоит сейчас перед тобой весь в клее, после того как отскакал два часа в поролоновом костюме, в гриме, в парике, могу тебе сказать, что театр — не самая комфортная среда обитания. Так что если вдруг ты поймешь, что это не очень твое, то, поверь, очень облегчишь себе жизнь». В мире есть большое количество гораздо более комфортных и менее затратных занятий.
Насколько профессия кажется вам мужественной? Притворство, кривляние, переодевание…
Все это требует серьезной выдержки, определенного стержня. Не случайно, изначально в театре, — и в японском, и в английском, и в греческом, — все роли играли мужчины. Это ведь еще и физическая нагрузка — ходить на котурнах, прыгать, падать, драться.
А зависимость от режиссера?
Мы все очень зависимы друг от друга. У меня есть опыт работы режиссером, и я понимаю, что это не менее зависимая работа, чем у артиста: ты зависишь от актеров, от их настроения, от доверия, которое, по большому счету, отсутствует – ведь у артистов нет авторитетов. Мы сейчас говорим о театре, так вот, я много раз видел, что авторитет Фоменко совсем не был незыблемым. Думаю, это касается и Туминаса, и Додина, и касалось Эфроса.
Вам доводилось спорить с Фоменко?
И мне, и всем доводилось. Но, знаете, как ни странно, чем меньше уровень актера, тем чаще он спорит. Чем выше его уровень, тем легче ему попробовать что-то, с чем он даже не согласен, тем проще он присваивает самые бредовые задачи. Я ставил спектакль, в котором Екатерина Сергеевна Васильева могла сказать: «Нет, я этого не буду делать» — и тут же пробовала, пробовала легко и делала это лучше, чем от нее требовалось. Потому что ей было интересно. А артисты с небольшим опытом не пробуют, потому что чувствуют недоверие к своим возможностям.
То есть готовность принимать режиссерский диктат – тоже в какой-то степени индикация мастерства?
Диктат, мне кажется, это немножечко миф. Если мы говорим о зависимости друг от друга, то диктат тоже часто идет не от большого мастерства режиссера.
Как вам работалось с Тодоровским?
Первый раз мы работали вместе на «Оттепели» и Валерию Петровичу с нами было непросто, точнее со мной. Но это как раз такой режиссер, который слышит и видит пространство артиста, его состояние и пользуется этим, то есть работает с настоящим, живым моментом. Мы ведь в голове можем придумывать все, что угодно, а выходим на площадку, и становится понятно – не туда, вот просто не идет – и все. И надо придумывать что-то совсем другое. Так что тотальное следование режиссерскому замыслу не всегда дает результат. Валерий Петрович говорит: «Не учите текст, на площадке разберемся». И мы садимся, думаем, проговариваем, убираем лишнее. Позволю предположить, что несмотря на свою маститость и опыт, он тоже развивается, степень его доверия артистам растёт. Но это не отменяет «режиссерского видения», точнее, иногда это и есть «видение».
Расскажите о съёмках фильма «Одесса», которым открылся 30-й фестиваль «Кинотавр».
Мы все на площадке понимали, что проживаем какой-то удивительно легкий, радостный период. Сам Тодоровский говорил, что пожалуй впервые почувствовал, как на площадке можно получать удовольствие, а не только тяжело пахать и сходить с ума. Есть такая актерская байка, что если съемки проходят в каких-то невыносимых условиях, – снега-окопы-палатки, – то будет непременно шедевр, а если съемки на море под солнышком, все купаются и едят виноград – обязательно выйдет дрянь. И нам хотелось разрушить этот миф. Знаете, как выглядел съемочный процесс? Так, наверное, снимали в Советском Союзе в семидесятых, а «Одесса» — история как раз про те годы. По эмоциям, общению, кропотливости, неторопливости мне кажется, было очень похоже. К тому же снимали на пленку, от чего ретро-ощущение только усиливалось. В какой-то момент мне показалось, что вот этот воображаемый временной порт мы миновали и уже находимся там, в семидесятых, где происходит действие фильма.
Это сентиментальное кино?
Есть такая штука — «аффективная память», способность к воспроизведению прошлого опыта. Условно говоря, вы не помните, как в детстве грызли ножку стула, но помните ее вкус. И на площадке такие сентиментальные моменты вылезали постоянно. Я фильма еще не видел, но уверен, что в нем этому найдется место — каждый вспомнит свои сосиски с горошком, свои плавки в попугаях. А если говорить о самих съемках «Одессы», то в кино вообще довольно часто тебя настигает момент восторга от происходящего. Должен сказать, что здесь была собрана невероятная съемочная группа и актерская команда – у Валерия Петровича к этому особый талант.
Чем вам особенно запомнился этот проект?
Очень надеюсь, что тем хорошим, чем запомнится этот проект, станет фильм — которого, повторюсь, я еще не видел.
Что вы испытываете, видя готовый фильм и понимая, что половина, а то и 70-80 процентов материала, в который вы вложили душу, эмоции, физические силы, на монтаже ушло в корзину?
Если картина складывается, если в ней правильно расставлены акценты, если есть какой-то ритм, дыхание…
Но это не ваш ритм, не ваше дыхание, а режиссера.
Не мой, да. Но я отдаю себе отчет в том, что я – выразительное средство. Как инструмент для музыки: ведь сама музыка не становится хуже или лучше, от того, что партию какого-то инструмента сократили. Главное, чтобы он не фальшивил. Понимаете, я учился у Фоменко, который говорил о том, что самовыражение – не самое главное, что есть у артиста. Петр Наумович пытался нас учить восприятию. Есть органы чувств, и наша задача в том, чтобы их развивать и уметь ими пользоваться.
А где же точка коммуникации со зрителем?
В кино она отсутствует. Но все равно, я бы не сводил все к самовыражению режиссера. Если предположить, что мы — проводники какой-то идеи, что это не режиссер решил выразить какую-то мысль, а сама идея фильма сформировалась в нашей среде обитания, то режиссера можно считать таким же инструментом, проводником этой идеи. А дальше идея начинает обрастать обстоятельствами. В фильм «Человек, который удивил всех» утвердили меня, а могли утвердить другого артиста. Важную сцену должны были на улице снимать, но пошел снег – и снимали в клубе, где праздновали День колхозника. Получилась совсем другая сцена – не такая, какой ее задумал режиссер, а такая, какой ее сделали обстоятельства, и она неожиданно стала эмоционально очень важной. То есть если и говорить о каком-то диктате – часто это диктат обстоятельств, и во взаимодействии с этими обстоятельствами есть что-то чудесное.
Вы нравитесь себе на экране?
Есть моменты, когда я абстрагируюсь от того, что это я. Так происходит, мне кажется, на хороших фильмах. То есть я либо смотрю кино, либо смотрю на себя – а что любоваться, какой я молодец, если фильма нет? Болеешь ведь за общее дело, а если картина не сложилась – неважно, как ты выглядишь на экране.
Часто ли возникает ощущение «здесь я должен был сыграть по-другому»?
Сегодня я увидел студенческую короткометражку, которую меня попросили озвучить. Смотрю и прямо слышу, что здесь слово неправильное выбрано, здесь — интонация неточная. Это нормально, что можно критически воспринимать свою работу, но там я вроде согласился сниматься, поддержал молодежь, только как бы немножечко свысока: «ладно, ребята, что тут у вас? самодеятельность какая-то?». Потом смотришь фильм и понимаешь, что кино-то в итоге неплохое, а самодеятельность в нем — как раз ты.
Не остается послевкусия от недоигранного, как от недоделанной работы, вечного ощущения «я мог сделать лучше»?
Это же прекрасно — ощущение недоделанного. Знаете, меня в последнее время достаточно много награждали, хвалили, и я вдруг почувствовал, как это стремно — ощущение, что ты сделал какую-то этапную работу. Когда играешь последний спектакль в сезоне, и он не очень хороший — это правильно. Уходить в отпуск с ощущением, что не смог сегодня сделать все, что хотел — правильно. Нужно знать, что есть куда дергаться, в нашем деле почивание на лаврах — опасная штука.
Три слова, которые характеризуют вас наиболее точным образом, три прилагательных.
Пожалуй, ограничусь одним – живой.