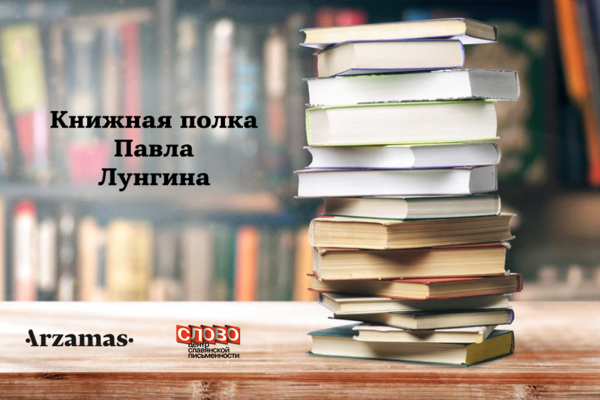Какие у вас отношения со спортом?
Да никаких. Весь мой спорт – это конституция, которая досталась от родителей, и благодаря которой я не разжирел, как свинья, потому что денег и аппетита, чтобы разжиреть, у меня хватает. Виной всему — актерский образ жизни, отсутствие привычки регулярно питаться, вернее, питание безо всякого графика, когда после спектакля я могу наесться так, что ночью приснится Баба Яга. Или пельмени снятся — все шестьдесят, которые съел. И говорят: «Ну что, Гармаш, как тебе с нами спится?»
Неужели вы совсем никак не поддерживаете физическую форму? Не верю.
Если говорить о серьезных занятиях спортом — это первый год в армии, там я по-настоящему, что называется, качался. Несколько лет делал какую-то зарядку. Мне сказали, что для хорошей работы сердечной мышцы очень невредно по утрам отжиматься, и много лет я каждое утро раз по двадцать это проделывал. Бросил из лени, сейчас не отжимаюсь. Есть две вещи невозможных для артиста: артист не может быть качком и не может быть богатым.
А за весом следите?
Практически никогда. Вот только недавно, когда я снимался в картине «Два билета домой», — там я дебютировал еще и как автор сценария, — режиссер Месхиев попросил меня похудеть. Первый и единственный случай в моей жизни: за пару месяцев я похудел килограммов на восемь.
Тяжело было?
Я бы не сказал. Сахар не ел, макароны ел, хлеб не ел. Но главное —
каждое утро становился на весы. Повесил бумажку с табличкой на стене и разрешил сыну приписывать к цифрам веса комментарии. Он и приписывал: «Папа — герой», или «Позор отцу!», если вес вдруг начинал ползти вверх.
От чего из продуктов было труднее всего отказаться?
От жареной картошки — по-украински, на сале, да еще залитой яйцом… Никакой деликатес в жизни с этим не сравнится! Когда она была бабушкиными руками пожарена — это нечто неповторимое, да и мамиными тоже. Они с мамой по-разному готовили, но вот это блюдо у них было одинаково прекрасно.
Вы вообще какую кухню предпочитаете?
Разную, но простую. При слове «фьюжн» меня начинает трясти, могу сразу что-нибудь матерное сказать. Помню, как это слово появилось в конце 90-х и везде стали пихать этот фьюжн проклятый. Как-то у нас были длинные гастроли — Хабаровск, Владивосток, Петропавловск и Сахалин. Приходим ночью в ресторан, на вид приличный. Я говорю: «У вас-то тут уж точно есть свежая рыба» — «Не то слово, вот прямо два часа назад из моря вынули». — «Зажарьте мне кусок горбуши». Мечтал о куске свежей рыбы с жареной картошкой. Приносят. Спрашиваю: «Это что тут сверху налито?» — «Сладкий брусничный соус фьюжн». Твою-то мать!
То есть ты все-таки любитель простой еды?
Ну, почему? С удовольствием съем что-нибудь изысканное. На гастролях ни в чем себе не отказываю, хотя не в каждой стране получаю удовольствие.
В Германии трудно найти вкусную еду, в Англии тоже трудно. Зато в Нью-Йорке был в ресторане «Марья Ивановна» — это просто свидание с детством: съел там обед — как с родными повидался. И борщ, и пельмени прямо безумно настоящие. Так что, наверное, лучшая еда — у нас, в России. Мы еще и самые хлебосольные, нигде так столы не накрывают, как у нас — чтобы ломилось, чтобы не только гостям, но и бомжам возле мусорок, и собакам хватило. Если говорить про меня лично — мне просто важно, чтобы было вкусно. А для этого у человека, который готовит, должно быть схожее с моим понимание вкуса. Это, кстати, не только еды касается.
Что для вас пример дурного вкуса?
Бывают вещи, которые дико раздражают. Наверное, Роберт Рождественский перевернулся бы в гробу, узнав, что его дочь, — умная, хорошая девушка, — делает серию фотографий, на которых, к примеру, в виде портрета Пушкина работы Кипренского, красуется эстрадный певец. Ну, это конец! Для меня это не то что безвкусно, а, честно говоря, глубоко безнравственно. Можно было бы делать такой проект пусть даже на основе полотен великих художников, но чтобы это были какие-то там «Портрет неизвестного», или «Дама на лужайке». Но невозможно, понимаешь, когда речь о Кипренском и Пушкине, впаять туда кого-то из шоу-бизнеса. Есть случаи, когда нарушение хорошего вкуса граничит с откровенной пошлостью. Это все равно что сказать: «А давайте мемориальную доску на Мойке № 6 немножко осовременим».
То есть, хороший актер может быть загримирован под Пушкина, а Александр Буйнов, к творчеству которого вы, похоже, холодны — не может?
Нет, нет, дело не в этом. Попробовали бы сделать такое предложение Янковскому: «Давайте мы загримируем вас под портрет Кипренского, будете Пушкин». Олег Иванович Янковский выслал бы вас с таким предложением далеко-далеко. А этот — не выслал.
Давайте еще немного поговорим о спорте. Неужели детство в морском Херсоне прошло совсем без него?
Ну нет, конечно. В школе я всерьез ходил в секции – баскетбол, легкая атлетика, бокс, которого очень хотел папа. Даже записался к тренеру, который в свое время папу тренировал. Потом была гребля: несколько раз на байдарке по Днепру прошел полную дистанцию, переворачивался, вылезал весь мокрый, вытаскивал на берег байдарку, выливал из нее воду, опять спускался, в общем — все как положено. И вот как-то возвращаюсь после байдарочной тренировки со станции водно-спортивного клуба «Петровец» и меня окликают. Смотрю, стоят парни-близнецы: «Как твоя фамилия?» — «Фамилия Гармаш». — «Да ты шо?!» — «Ну, да». — «А где ты занимаешься?» — «Вот там на «Динамо», гребля». Они засмеялись: «Гробокопатель, да?» — так гребцов называли. Представь, эти два брата оказались моими однофамильцами.
Гармаш — популярная фамилия?
Нет, не очень популярная. «Гармата» – это пушка. Пытаясь восстановить историю фамилии, я нашел гравюру, на которой стоит казак возле пушки с зажженным фитилем. То есть «гармаш» можно перевести как артиллерист, или канонир. Фамилия не самая распространенная, я в Херсоне ее почти не встречал. К тому же знаю точно, где она родилась, это исторический факт: на Запорожской Сечи. А уже из Запорожской Сечи разъехалась в три конца: в Полтаву, в Харьков и в Донецк, точнее в Луганск. Моя ветвь по бабушке — из Луганска. В общем, эти близнецы-Гармаши позвали меня в парусную секцию, лет мне тогда было 12-13.
Сразу встали под парус?
Не то чтобы «встал» — тогда же не было досок в природе. Были лодки класса «Оптимист» — совсем для малышей, был юношеский класс «Кадет» — это на двоих. После «Кадета» шли уже олимпийские классы: «Финн» — швертбот-одиночка, «Летучий голландец» — скоростной гоночный швертбот на двоих, килевые «Дракон» и «Солинг» — на троих, это уже олимпийский класс. Потом появился класс «420», который я тоже застал — он не стал олимпийским. Некоторые мои сверстники до сих пор продолжают гоняться.
Можете вспомнить первые ощущения?
Когда над головой развернулся парус, это сразу было началом любви. Ощущение того, что все происходит только благодаря силе ветра и шкотам, которые ты держишь в руках. Когда подбираешь паруса, когда рождается чудо этой скорости, — как бы из ничего, из движения воздуха, — это непередаваемо, нельзя не влюбиться. Конечно, гонщик «Формулы-1» посмеется надо мной и скажет: «Это разве скорость? Фигня какая-то, а не адреналин». Но во мне это сидит сильно, очень сильно. Тут же примешивается еще вот что: на самом-то деле я даже близко не собирался поступать в театральное училище. Я хотел быть моряком, собирался в мореходку. Ты не понимаешь, что для пацана означает момент, когда он гоняет во дворе в футбол со своим другом-восьмиклассником, а через три летних месяца видит его в морской форме. Это такая зависть — конец! Любовь к морю начиналась только с формы.
Надолго хватило увлечения парусом?
Парусным спортом я занимался я серьезно лет пять-шесть, стал кандидатом в мастера спорта. Однажды даже пришел первым на соревнованиях союзного значения. На самом деле, это был важнейший момент в моей жизни. У меня в кармане уже был диплом Днепропетровского театрального училища, я работал в театре кукол. Как-то в перерывах между гастролями меня пригласили поучаствовать в гонке — в одном экипаже не хватало матроса. Мы поехали в Николаев на «Кубок Шмидта» — кстати, одна из старейших регат Черноморья, если не всей Советской страны, проводится с 1952-го года. Мне было 18 лет, а в гонке участвовали первые номера Советского Союза — рядом с нами, к примеру, стартовал человек, которому было 44 года, из которых лет 30 он уже ходил под парусом. И вдруг после этих соревнований мы с Лешей, моим рулевым, — а у нас обоих впереди призыв в армию, — получаем конкретное предложение: нас берут в спортроту. Ты себе не представляешь, что это означало тогда, в 77-м году! Это сродни тому, что сейчас бы мне сказали «приглашаем тебя в Голливуд на главную роль, и играешь ты её на русском языке». Один к одному! Я моментально вернулся в Херсон, пошел в театр, написал заявление и стал собирать вещи — ехать служить в севастопольскую спортроту. Нам даже уже сказали, какой дадут катамаран — английскую лодку. Это был, сон, просто сон.
Судя пор тому, что служили вы под Москвой, сон так и не стал явью. Что помешало?
Не что, а кто. Мама. Я пришел домой, и тут вернулась с работы мама. Услышав про спортроту, она расплакалась, — ну просто очень сильно,- и стала просить меня этого не делать. Не просто просить — умолять. Причем, у нее не было никаких аргументов: она не говорила, что у меня большое будущее, что я стану знаменитым артистом — нет, ничего. Просто плакала и говорила: «Это неправильно, так нельзя, ты же учился…».
Но она же понимала, что вам все равно придется идти в армию.
Понимала, да. Но то, что мне нужно прямо сию секунду бросить театр и уехать, у нее как-то не укладывалось в голове. Дело было не в армии, а в чем-то другом, в какой-то ее интуиции — это же она же отвозила мои документы в театральное училище. В общем, мама до такой степени расстроилась и так меня умоляла, что я сдался. Не поехал. С тех пор и по сей день, если врубаю телевизор и вижу там парусные гонки — переключаю моментально, не могу смотреть. Это даже не боль, это хуже, чем боль — непрожитая часть моей жизни, в которую я никогда уже не вернусь.
В результате вы оказались в стройбате.
Да, потому что при всей любви к парусам служить во флоте три года, честно говоря, не хотелось. Уезжая, сказал в своем театре кукол «ждите меня, и я вернусь». У меня и правда, было ощущение, что я всю свою жизнь хочу посвятить театру кукол, что мы еще так много прекрасного сделаем. На самом деле, кукольный театр — высочайший, уникальный вид искусства. Я сейчас открою небольшую тайну, и это не шутка: на сегодняшний день я являюсь артистом двух театров. Про «Современник» всем известно, а второй — это театр Резо Габриадзе. Я открываю этот секрет с позволения самого Резо: в последний свой приезд в Тбилиси я получил уже третью роль в его театре — наполовину на грузинском языке! У меня есть спектакль «Рамона», есть «Сталинград» и вот теперь — новый, который выйдет в мае следующего года. Более того, Габриадзе попросил, чтобы мой голос звучал в объявлении «выключите, пожалуйста, мобильные телефоны». И он звучит. Я говорю: «Резо, ну тогда уж позволь мне считать…» И он сказал: «Да, ты считаешься артистом нашего театра». Я с невероятной гордостью про это говорю. В театре кукол можно увидеть такие вещи, которых ни Питер Брук, ни Олег Николаевич Ефремов, ни Фрост, ни Галина Борисовна Волчек, никогда не смогут достичь — просто потому что это другой вид искусства. Он, к сожалению, не такой массовый, не такой зрелищный, но может так рассмешить, так заставить плакать, так тронуть — просто до невероятных глубин.
Как связь между артистом и куклой превращается в средство управления слезами и смехом зрителя?
Нужно просто-напросто сделать куклу живой. Ну вот ты приходишь ко мне в театр и видишь построенную на сцене гостиницу, или квартиру, или сад. Насколько художник смог создать у тебя ощущение, что это настоящая квартира, настолько и здесь с точки зрения художественного исполнения кукла воспринимается как образ, который она воплощает. Это профессия художника. А сделать ее живой — это задача актера, это и есть главный момент профессии. Кукла может быть тростевая, может быть перчаточная — такими были самые самая первые, первобытные куклы. Вспомни кукол в театре Образцова, перчаточные спектакли «Колобок» или «Алешка» — это высокое искусство, когда человек забывает, что перед ним перчатка. Я работал в основном с тростевыми куклами: две трости и гапит — деревянный штатив, на котором держатся голова и плечи. Он же управляет глазами и ртом, если глаза и рот работают: есть курки, на которые нажимаешь пальцами — говоришь, а палец должен синхронно работать, чтобы у куклы открывался рот, двигались брови или глаза. Вспомни куклу-конферансье из «Обыкновенного концерта»: она появляется, звучит голос Зиновия Гердта — и зал смеется. Потому что кукла живая.
В какой момент вы решили, что кукольный театр — пройденный этап?
Когда армия стала делать из меня мужчину, — в хорошем и достаточно серьезном, жестком смысле слова, — в голове моей произошел какой-то щелчок. Я почувствовал, что хочу учиться дальше. Еще до армии, в конце четвертого курса театрального училища мы приехали в Москву на пять дней, походили по театральным вузам и по московским театрам. Там в меня как будто бы попала инфекция, а в армии она, как спящая бактерия, проснулась. Я понял, что хочу остаться в Москве и поступать в театральный институт. На втором году службы, перед дембелем, у меня было больше свободного времени, я брал ключ у библиотекаря и шел в библиотеку ночевать. Очень многое из того, что прогулял в театральном училище с точки зрения чтения, нагнал именно в армии. В общем, я начал готовиться к поступлению.
Представляли себя на сцене?
Не было мысли о большой сцене, была мысль о том, чтобы развиваться, овладевать профессией по-настоящему. Когда уже студентом на протяжении четырех лет я играл в массовке во МХАТе, когда мимо меня в кулисах проходили Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков, Екатерина Васильева, Вячеслав Невинный, Вертинская, Калягин, сам Олег Николаевич Ефремов, в конце концов — как описать это чувство, я даже сейчас не подберу слов! Был спектакль «Мятеж», в котором массовку всегда играли студенты МХАТа — там в главной роли был Юрий Богатырев. Боже, если бы ты знала, кто еще выходил тогда на эту сцену! Там шел «Солдат Иван Бровкин», где играл Леонид Харитонов, там играл Пётр Чернов, который потом снимался в «Поднятой целине», Золотухин, Зимин — весь цвет и МХАТа, и советского кино. Но даже тогда, стоя за кулисами, я не верил, что сам когда-то окажусь на сцене. Это было даже не мечтой, а мечтой о мечте. Но и сама учеба была невероятна. Знаешь, если бы господь Бог мне предложил выбрать, какой год из моей жизни я хочу еще раз прожить, я бы сразу сказал: «Первый курс Школы-студии МХАТ». И с точки зрения жизненного опыта, и с точки зрения любви, и личных взаимоотношений, и профессии — только первый год Школы-студии МХАТ.
Веселая студенческая жизнь?
Ну, не только в ней дело. Хотя, и она тоже, конечно. Сначала я жил в общежитии, а на третьем курсе мы вдвоем с другом пошли работать дворниками, подметали участок около метро «Динамо». Как дворникам нам дали трехкомнатную квартиру в выселенном доме. Людей оттуда выселили, а газ, электричество и холодную воду не отключили, так что мы жили просто роскошно. За один дворницкий участок платили 70 рублей на двоих, это было отличным подспорьем. Ну и, конечно, в этой трехкомнатной квартире собирался весь курс.
Не считая появления в «Ералаше», вы ведь впервые снялись в кино еще студентом?
До четвертого курса кино было от меня на расстоянии космоса. Не как город Красноярск, до которого ты точно знаешь, сколько от Москвы километров, а именно космоса — расстояние, которое не укладывается в голове. А потом была первая роль — у Алексея Симонова в картине «Отряд», так что Алексея Кирилловича я считаю своим крестным отцом в кино.
Когда вы почувствовали себя знаменитым? После «Каменской»?
Слово «знаменитый» мне не нравится, а вот «известный», «популярный» — да, безусловно, «Каменская» это сделала. Хотя и до нее меня уже узнавали на улице. Что скрывать — популярность была невероятно приятной. Но после третьего сезона я уже четко понимал, что история себя исчерпала. Было понятно, что она выходит в тираж и едет уже только на бренде, что все, что можно про этого человека, моего героя, я уже рассказал, сыграл и это превращается в хождение по кругу. И здесь надо отдать должное моему другу Валере Тодоровскому и потрясающему товарищескому шагу, который в какой-то момент он сделал как продюсер этого сериала. Перед этим нужно добавить, что во время съемок «Каменской» Валера сделал два потрясающих подарка — один мне, один Лене Яковлевой: мне — роль в фильме «Любовник», Яковлевой — в картине «Мой сводный брат Франкенштейн». В общем, настал момент, когда у студии не все было в порядке, и меня попросили принять участие в очередном сезоне «Каменской». Валера сказал: «Снимись в четвертой «Каменской» и пожалуйста, можешь уходить». Так и произошло — я ушел, но наши отношения не испортились ни на секунду, и я за это невероятно ему благодарен. Безусловно, «Каменская» открыла мою морду широкому спектру зрителей, и должен сказать, я вообще-то очень люблю этого парня, Короткова, мне с ним было хорошо. Вообще, «Каменская» была огромным куском жизни — 60 серий, 4 блока по 15, это каждый раз — полгода жизни.
Как не выгореть творчески в проекте такой продолжительности?
На самом деле, мы там очень сильно упражнялись. Было бы страшно интересно найти сейчас изначальный вариант сценария одной из первых серий «Каменской» и посмотреть, во что он превратился на экране. Режиссер Юра Мороз разрешал нам хулиганить — в творческом, хорошем смысле: мы бесконечно импровизировали, сочиняли реплики и целые эпизоды. «Каменская» для меня была, как это ни странно прозвучит, такой актерской аспирантурой. Там я впервые узнал, что такое десять съёмочных дней подряд, что такое большие метражи, когда в день снимается огромное количество материала, когда нужно учить огромное количество текста.
У вас есть какие-то специальные приемы для тренировки памяти?
Да нет никаких приемов, не нужны они были ни тогда, когда я был помоложе, ни сейчас, тьфу-тьфу. Приезжаю на съемочную площадку утром, беру текст, читаю, потом переодеваюсь, еще раз читаю. Дальше иду в гримерную, там сидишь ты, и если нам с тобой предстоит сцена, мы читаем вдвоем. Всё — к кадру я текст буду знать.
Если «Каменская» была аспирантурой, то дальше были настоящие курсы повышения квалификации — картина Никиты Михалкова «Двенадцать». Там нам всем, всем двенадцати героям было разрешено говорить столько, сколько мы хотим, и предлагать все, что хотим. Столько репетиций не было ни в одном моем кино. До команды «мотор!» мы семь смен репетировали, семь смен! Как в театре — сидели за столом, читали, разбирали, правили, добавляли, убавляли. Поэтому это тоже были, безусловно, курсы профессионального мастерства. И кто бы что ни говорил, — мы знаем, как по-разному народ воспринимает Никиту Сергеевича Михалкова, — но на съемочной площадке он царь и бог. И одновременно — не царь, не бог, не режиссер-постановщик, а весельчак, балагур, импровизатор и создатель абсолютно невероятной атмосферы. Любой артист, говорящий о Михалкове плохо, если попадет к нему в картину, — даже на самую маленькую роль, — получит инсульт, потому что ему придется свою ненависть соединить с таким профессиональным восторгом, которого он никогда раньше не испытывал.
Михалков и по сей день так работает на площадке?
Думаю, что и по сей день. Да, в разном возрасте люди снимают разное кино, но сам процесс ведь не меняется. А в кинопроцессе Михалков умеет абсолютно все, уж не знаю, как это у него получается. Вот, скажем, девочка, третий ассистент по реквизиту, делает ошибку — не трагическую, но ошибку, из-за которой останавливается съемка. Девочке кажется, что рушится ее судьба. А Никита Сергеевич, объясняя ей, в чем ошибка, делая это суперпублично, перед лицом всей съемочной группы, дает этим объяснением такой четырехминутный мастер-класс, в результате которого девочка не просто получает урок профессии, но еще и становится абсолютно счастливой от ощущения, что она — одна команда с Михалковым. Вот это — настоящий талант.
Больше полутора сотен фильмов и сериалов — гигантский опыт работы с разными режиссерами. Что в этом опыте самое ценное?
Есть ряд режиссеров, которых я считаю своими старшими учителями. Это и Соловьев, и Абдрашитов, и, безусловно, Симонов — его «Отряд» для меня как первая любовь, как путевка в жизнь. Но есть бесконечно уважаемые мною режиссеры, которые младше меня, это и Дима Месхиев, и тот же Валера Тодоровский. Когда мы работаем с Валерой, есть моменты, в которые я даже приблизительно не могу понять, что происходит у него в голове, настолько неожиданные решения он принимает на площадке. Спроси меня: «Что для тебя режиссура?» и я приведу пример из того же «Франкенштейна». Там у меня был эпизод, совершенно классный, я безумно хотел его сыграть. Приехал на площадку очень подготовленный, знал свой монолог буквально от и до. У нас всего две смены, репетиция перед съемкой, Тодоровский говорит: «Ну, давайте». Это такой мастер-план — всю сцену нужно сыграть целиком. Начинаю свой кусок, в середине сцены раскалывается от смеха Яковлев. Потом падает из-за камеры оператор Сережа Михальчук — говорит: «Я не могу». И дико хохочет Тодоровский. Я еще сцену не доиграл — а все уже корчатся от смеха. Представляешь, что я чувствую? На мне реально пиджак распирает, потому что под ним начинают расти крылья. Валера, смеясь, говорит: «Ну, давайте успокоимся. Собрались, начинаем еще раз». Когда так все происходит, когда тебе слова не сказали, когда ты даже замечания не получил ни одного — это же счастье! Едем дальше, вторая репетиция, результат — практически тот же самый. Крылья мои уже пробили пиджак и просто видны всей группе. В эту минуту Тодоровский меня подзывает: «Иди, дружок, сюда, в сторонку», и говорит: «А теперь — убрал все, что ты придумал и показал. Убрал это все к чертовой матери и сыграл абсолютно серьезно, без всякого юмора. Только в одном месте я должен увидеть, что ты идиот, в одном-единственном». И называет конкретную фразу. Я охолонул, задумался, но так и сыграл. У меня не было ни секунды сомнения что надо сделать именно так. Ровно за это я и получил золотую статуэтку — «Нику» за лучшую роль второго плана. Именно за те два слова, которые Валера из этого куска текста вытащил. Вот это для меня и есть настоящая режиссура.
Наверное, доверие к режиссеру должно быть безграничным, чтобы спокойно воспринимать такое отношение к твоим профессиональным находкам?
Профессиональные находки – актерская инициатива, которую режиссер волен брать или не брать, таково главное условие сосуществования артиста и режиссера. Но это не диктат, ни в коем случае не диктат. Диктат – признак глупости. Если бы Тодоровский требовал что-то, что показалось мне абсурдным, или было бы непонятно как сыграть, я либо сказал бы: «Это дурь полная», либо потребовал объяснения. Похожая ситуация была, когда мы с Янковским сыграли одну из первых сцен в «Любовнике» и услышали: «Снято!». Мы с Олегом Ивановичем в один голос спрашиваем: «Стоп, как это — «снято»? А крупные планы?» На что Тодоровский сказал: «Нет, я буду по-особому снимать эту картину». И объяснил, как именно. Неспроста «Любовник» получил в Сан-Себастьяне приз за лучшую операторскую работу.
Вы сейчас довольно долго не снимались, читали сценарии, которые вам бесконечно предлагали — и ничего не нравилось. Не боитесь дня, когда перестанут предлагать?
Послушай, этот день неизбежно потихоньку настает — во-первых, потому, что
тебе не предлагают того, чего ты ждешь, во-вторых — потому, что становится все менее приятно смотреть в зеркало. Конечно, если сравнить с тем, что было десяток лет назад — предложение каких-то больших ролей сокращается, и это естественно. Но я этой нехватки не ощущаю, точнее, я не страдал, не снимаясь целый год, ну вот совсем не страдал. Может быть, потому, что на протяжении последних лет тридцати у меня не было между съемками перерыва длиннее трех, максимум — четырех месяцев. Так что эта огромная годичная пауза — первая в моей киноистории. И она меня не шокировала, не убила. Я соскучился по кино. Вот сейчас вышел на площадку к Урсуляку на один съемочный день и дико волновался. Поначалу чувствовал, что не могу правильно включиться в процесс, что не все получается — и в этом волнении было что-то приятное, какое-то ощущение молодости, что ли.
На случай, если поток предложений в кино все-таки иссякнет — имеете план?
Во-первых, у меня есть театр — тут все-таки актеры живут и дольше, чем в кино, и интенсивнее, это первое. А второе — я точно нашел бы, чем заниматься. «Отнимите у меня сцену и съемочную площадку — и я перережу себе вены» — это точно не про меня. Если бы можно было писать жалобы господу Богу, — верю, что он человек с юмором, и меня простит, — я бы ему написал: «Господи, посмотри на нашу Землю, какой она величины и сколько ты сделал на ней прекрасного. Но тот отрезок жизни, который ты нам дал, преступно мал чтобы всем этим нормально попользоваться. Понимаешь, Господи? Или тогда дай мне несколько жизней: я хотел бы одну жизнь учиться, вторую — сниматься, третью — любить, четвертую — путешествовать». Но поскольку факт остается фактом и все вышеперечисленное надо успевать за то время, что тебе отведено, то не надо жить скучно, не надо говорить: «Знаете, я посвятил свою жизнь только тому-то и этому-то». Как провел остаток жизни Муслим Магомаев? Он ушел со сцены в определенный момент, как в спорте, ушел окончательно и бесповоротно. Точно также в определенный момент ушел из кино Леонид Куравлев — и прекрасно себя чувствует. Да, многие актеры, уйдя из профессии, трагически закончили свои дни, но я не об этом. И даже не о том, что нужно иметь мужество где-то поставить точку — верю, что от меня этот момент еще далек, не в моем характере переживать за какие-то гипотетические вещи. Что я буду делать, к примеру, если завтра вообще запретят кино? Да его скоро не то что запретят, его во всем мире скоро не станет! Я уверен на сто процентов, — и это будет одна из величайших трагедий второй половины XXI века, — что у всех артистов просто будут снимать МРТ. Твоя копия в виде полного МРТ будет стоять в архиве студии, они тебе будут просто звонить и говорить: «Роль рыцаря — согласен?» Ты за какие-то копейки подписываешь бумажку — и все. Без малейшего твоего участия снимают кино, в котором будет твоя морда, твой голос и даже ноги твои кривые икс-образные. Это обязательно рано или поздно произойдет, во второй половине века художественный кинематограф останется примерно для такого количества людей, как количество путешественников на воздушных шарах.
Наш традиционный вопрос — на какой вид спорта похожа ваша жизнь?
На бег с препятствиями. Точнее, не на бег — на ходьбу. С препятствиями и элементами многоборья. С присутствием допинга и отсутствием всяких правил.
***