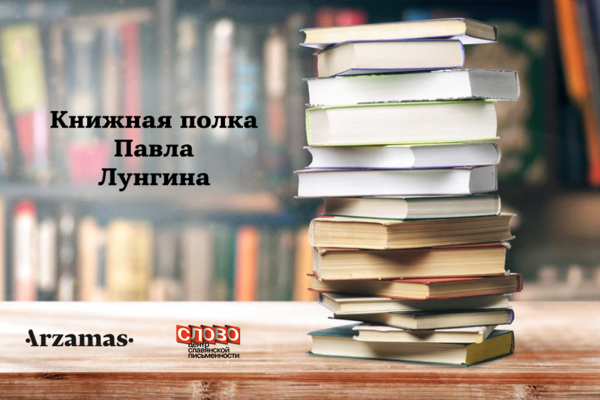Галина Волчек рассказала о личном Ольге Ципенюк
Про корни
Я выросла в кино. Такой была среда, которая меня окружала. В нашем доме на Полянке жил весь советский кинематограф — Райзман, Ромм, Птушко, Дзиган, Пырьев. Для всех это были великие режиссеры и артисты, а для меня — дяди и тети, которые дергали за косичку или по попке хлопали в лифте. В эвакуации к ним прибавились еще Пудовкин, Чирков, Жаров с Целиковской. Эйзенштейн сажал нас на колени и рисовал нам что-то. Шестилетние дурочки, что мы понимали…
Я была абсолютно папина дочка, он меня очень сильно любил. Я его обожала, считала самым красивым. Страшно гордилась, когда он шел через наш двор и все девчонки смотрели ему вслед, перешептывались. Главным в нем была скромность, невыпячивание. Когда папа садился, точнее, его сажали в какой-то президиум,— надо было искать его с биноклем, так он забивался, прятался за чьи-то спины. Он был невероятно скромным по самой своей сути. Меня этим восхищал и, наверное, в какой-то степени заразил.
Мама моя, несмотря на два высших образования, очень мало уделяла внимания моему, скажем так, духовному развитию. Сказать, что она была про приголубить и накормить,— тоже нет. Это был довольно эгоистичный человек, который считал, что ребенок должен сам всему научиться. Она отправила меня в первый класс одну. Папа был в Ташкенте, снимал с Роммом, а мне было шесть с половиной, и я собиралась в первый класс сама. Никто меня не причесывал, кос не заплетал — я, как могла, довольно путано сама себе что-то там завязала. Мамино определяющее качество — авторитарность. Кто-то жаловался на детей, что надо их звать с гуляния по сто раз, а они не идут, и мама гордо говорила: «А мне достаточно один раз сказать: «Га-ля!» — и она тут же идет домой»… Таким вот тоном она это говорила, прямо помню! Я ее боялась. Играла в классики у подъезда, ненавидела их, эти классики, но оставалась в поле зрения. Чтобы она могла в любой момент крикнуть вот это знаменитое «Га-ля!».
Про детство
В тринадцать лет они меня посадили перед собой — на такой круглый вращающийся стульчик от пианино,— и мама театральным тоном сказала: «Галя, мы с папой разводимся». Я опустила глаза, я уже все знала: что у папы кто-то есть, у мамы кто-то есть и как они живут, я видела, все понимала. И так мне было неловко за тон ее, за крутящийся стульчик, за театральность всего этого дела… «Ты должна выбрать, с кем будешь жить». И в тот же момент я сказала: «С папой». Не потому, что мама была плохая, ни в коем случае. Просто я страшно устала от этого контроля. Может, это был мой детский эгоизм — я понимала, что папа всегда занят и что я буду у него вольной птицей.
Про учение
Школа — это был худший вид советского лицемерия. Я училась в 585-й, на Полянке, и не ушла — вырвалась оттуда, окончив восьмой класс. Просто сказала: «Больше ни за что!»
В школе-студии МХАТ я была самой младшей. Первые два года — дико зажатая, стеснительная, закомплексованная. Для меня это вообще было невероятно — решиться поступать. Папа страшно не хотел, чтобы я была артисткой. Мамино мнение для меня не играло никакой роли. Еще когда я жила с ней и она меня запирала, чтобы я делала уроки, то у меня под математикой, под книжкой, лежал Чехов, а под физикой — Гоголь.
Огромную роль для меня сыграл Ефремов, когда пришел к нам преподавать,— человек с другой лексикой, другой интонацией. С ним я освободилась, перестала бояться себя. Я преклоняюсь перед великими мастерами МХАТа, но перевернул мое сознание и подход к театру именно Ефремов.
Про любовь
Первый раз я влюбилась в школе и потом влюблялась всегда наотмашь, с полной самоотдачей. Я вообще максималистка. В состояние влюбленности вхожу с головой и жду от второй стороны только такой же отдачи. Верю во взаимность во всем, не только в любви. Не готова играть за двоих. Мой второй муж — замечательный человек,— когда я заявляла: «Не хочу за тебя замуж», говорил: «Моей любви хватит на двоих». А я — нет, не такая. И с этим максимализмом так и прошла по жизни. За это меня сильно упрекнул мой первый муж, Евгений Александрович. Уже жизнь прошла, уже Денис был взрослый, уже у него семья, у меня семья. Уже умерла вторая жена Евстигнеева — Лилия, из-за которой мы расстались… И он вот там, на кухне, страшно возбужденно говорил, что я своим максимализмом разбила нашу жизнь. А я хихикала: мне казалось невероятным, что вот прошло 25 лет, а он меня этим попрекает. Уж не знаю, какой это вид любви, как это точно называется… Вела бы я себя иначе, если бы жизнь можно было отмотать назад? Нет, конечно. Это была бы не я. Такая судьба, такой меня Бог создал.
Про дружбу
Жизнь складывалась так, что все крутилось вокруг и внутри театра — в этом сосуде были и дружба, и любовь, и предательство. В моем дружеском кругу было много потерь, я много чего пережила, но всегда была отдана театру, остальное прилагалось. Те, кто был готов приспособиться к моей занятости, к моему невниманию, были со мной. А те, кто мог позволить себе времяпрепровождение более интересное, чем ждать, когда я освобожусь,— они меня не то чтобы бросали, нет, но я в их расписание не вписывалась. Но я умею прощать. К сожалению. Однажды меня в театре очень обидел один человек. Не обидел — предал. И я впервые сказала: «Господи, почему ты не дал мне силы ненавидеть». Могу не общаться, могу считать нелюдью — возненавидеть не могу. Но есть критики, которые планомерно уничтожали «Современник»,— убийцы, театральные киллеры. Вот их я могу ненавидеть. Только за театр, за все остальное я способна простить.
Про важное
Мой максимализм никогда меня не покидал — ни в отношениях, ни в оценках. И я никогда о нем не жалела. Уж какая есть. Могу проклинать себя, говорить, ну какая я идиотка, ну зачем я так… Но это всегда задним числом. При этом я гибкий человек — а как можно быть не гибким, руководя таким количеством людей? У нас в театре есть люди больные, которые выходят на сцену раз в месяц в лучшем случае. Но я никого не уволила, не подвинула с этого места, как бы ни было необходимо его освободить. А с собой я гибкой быть не могу.
Про успех
Мне в этой стране успеха почувствовать не давали, я ощущала его только на выезде. Такое количество людей околотеатрального мира не могло простить, что мы выжили… Всегда заколачивали гвозди в несуществующий гроб «Современника». Думаю, это связано с моей независимостью. С тем, что не вхожу в группировки, вышла из СТД, не хожу на театральные премии… Я знаю, что это мафия. Когда шесть экспертов переходят из одной комиссии в другую, чтобы голосовать, решать чью-то судьбу,— я им не верю.
Мы получили в Америке премию Drama Desk Award, ее до нас никогда не давали иностранному театру. Я спросила, сколько человек за нее голосуют — шестьсот! Вот тогда я обрадовалась. Это — моя гордость, это и есть успех. И когда мы были на Бродвее два года подряд — это был успех, как бы ни старались здесь это измазать. И я не считаю, что за успех была заплачена слишком большая цена. Я объездила полмира, была первым советским режиссером, приглашенным в Америку, чего мне многие мои коллеги, безусловно, не могут простить… Легко тем, кто наделен злобой и завистью. Я — нет. Поэтому страдала, и плакала, и болела. Все мои болезни — оттуда. Злоба и зависть, наверное, всегда сопровождают успех.
Про свободу
У нас сегодня какие-то странные понятия о свободе. Не вышел на Болотную — значит, что ты не свободен… Такой странный счет. Я впрямую соприкоснулась с политикой, когда пошла в Думу. На это меня уговорил замечательный Виктор Степанович, царство ему небесное. Лозунгами не махал, нашел какие-то совершенно человеческие, искренние слова. Сказал: «У вас же сын есть. Вы что, хотите, чтобы всех нас в крови утопили?» Я пошла. И поняла, что больше близко не подойду к политике. Моя политика — то, что я делаю в театре. И самое дорогое для меня — человеческие отношения. Не народ, а человек, и другой человек, и то, что между ними. А в политике нельзя, невозможно любить отдельного человека.
Я редко подписываю вот эти всякие… письма. Как я говорю: «Не участвую в хоровом пении». Сделала это, может, пару раз в жизни. Один раз — по поводу Сахарова, другой — по поводу этой женщины, Бахминой. За Цискаридзе? Да, когда Цискаридзе назначали, действительно подписала. Вот тут я, может быть, совершила ошибку. Я хорошо знаю Колю Цискаридзе и очень уважаю его как профессионала. Но обстоятельств не знала. Мне сказали, что вот у этого директора, который в должности и о котором я ничего плохого не знаю, кончается контракт и могут назначить кого-то совсем пришлого. Я еще спросила Колю, ты уверен, что это возможно, ты готов. И он достаточно скромно, но утвердительно к этому отнесся. Так я подписала.
Про Бога
Я верующий человек, — осознала это в себе четко, думаю, после сорока. Это было связано со многими обстоятельствами, я начиталась разных книг, то есть это был осмысленный приход к вере. Но есть ведь разница между религиозными, я человек верующий, но не религиозный. Хотя вообще, это очень личное дело. Скажу только, что бояться Бога — неправильно. Можно бояться себя, поступая не по-божески. Я стараюсь. Не то чтобы я чувствую за собой какой-то присмотр оттуда, но… я стараюсь.
Про страх
Многого боюсь, я не из смелого десятка. Боюсь катаклизмов, боюсь всего, что происходит в природе. Неотвратимости боюсь. Не скажу, что каждый день боюсь чего-то глобального, но бытовые мелочи есть, конечно. Боюсь, что спектакль сорвется, что артисты подведут… Скрываю страхи, то есть пытаюсь победить. Но вот чтобы меня преследовал страх смерти, ухода из жизни — этого нет. Я верю в какие-то вещи и знаю, что как судьба распорядится, так и будет.
Про деньги
Тяжелый для меня вопрос. Я в этом абсолютно бездарна. Конечно, я всегда производила впечатление богатой… ну, не богатой — шикарной (смеется) женщины. Хотя до поры до времени, точнее, до второго мужа, у меня не было ничего. То есть вообще ничего! Мы жили с Евстигнеевым так, как сегодня мало кто живет, сейчас и зарплат-то таких нет. Получали 69 и 69 рублей и за 30 снимали комнату. Это была прямо бедность, выживание. Но мы абсолютно легко к этому относились. На премьеру я варила грибной суп — покупала сухие грибы на ниточке. Не шляпки, а ножки, они дешевле. И я была такая счастливая! Никогда не плакалась, мол, мы нищие и все такое.
Уже когда я вышла за второго мужа, он мне кольцо подарил. Точнее, два. Вот есть люди, которые такие кольца попрячут, а я их оба носила — вот так вот, напоказ. И замечательная женщина, критик Крымова, говорила: «Ну как может ставить «На дне» режиссер, который ходит в бриллиантах…» Это тоже мне вменяли в вину, вы понимаете?
Если бы на меня свалилось много денег, точно знаю, что бы я сделала. Бог меня не наградил внуками, наверное, за грехи какие-то. Но все знают, что я обожаю детей. Маленьких. И я бы, наверное, все деньги, кроме какой-то, может, самой необходимой суммы на свое лечение, я бы все отдала на спасение детей, которые болеют. Даже не пустила бы эти деньги на театр.
Про детей
Я собой как мать довольна. Однозначно. И все, что кто-то пытается рассказать по-другому — неправда. Я с Денисом всегда общалась. Да, делила себя между ним и театром, да, он много торчал за кулисами и в чем-то был жертвой. Но в формировании его личности, считаю, я была стопроцентно права. Всегда говорила с ним на равных, даже когда это было ничем не объяснимо. Когда ему не было еще трех лет, я разошлась с Евстигнеевым. Приехала из Саратова в Москву. Представляете, какое у меня было состояние — это же произошло на глазах у всего театра, на гастролях, в гостинице. Я посадила Дениса вот сюда, в кресло, сама села напротив… и расплакалась. И все ему рассказала. Я не объясняла, я делилась. Как с подругой, как с товарищем. И тогда для себя как для режиссера открыла интересный момент: дети могут не понимать слов, но интонацию правды, лжи или притворства ловят безошибочно. Я говорила и говорила — все, как было. Ну, без подробностей там, гулял, не гулял… И Денис все понимал. Он всегда чувствовал отсутствие ханжества во мне. Я никогда не была для него строгим критиком, никогда. Каким там критиком… Хотя мне нравится не все, что он делает. В профессиональном плане — да, почти все. А в других вещах — есть многое, что мне хотелось бы в нем изменить. Но я никогда не пытаюсь этого сделать, понимаю, что бессмысленно. Главное — всегда остаюсь с ним совершенно искренней.
Три слова о себе
Главное, чем Бог наградил,— это максимализм. Не всегда легко принимаю решения, слушаю тех, кому верю. Меня трудно обмануть в серьезных вещах, а в ерунде какой-то — легко. Еще я ужасный самоед, нет режиссера, который не копается в себе. Я помню добро, за любое дело могу три раза спасибо сказать. Хотя по отношению к себе видела и вижу много неблагодарности. Но артистов прощаю всегда.